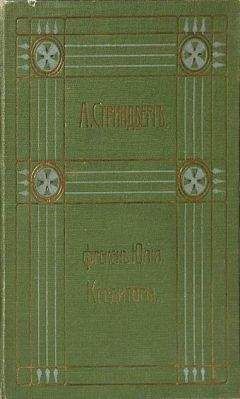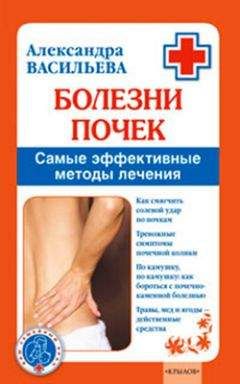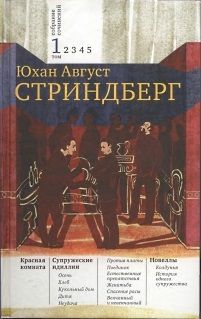— Раздражает, старина! Так мне одной нести мое горе, а ты еще взваливаешь на меня свою досаду! Это ли ты мне обещал, когда я выходила за тебя замуж?
— Без разъяснений, без логики! Дальше, пожалуйста! Все, впятером были здесь, мать и твои пять сестер!
— Четыре сестры! У тебя не слишком много любви к моей семье!
— И у тебя тоже!
— Да! я тоже не люблю их!
— Они, значит, были здесь и соболезновали о том, что моего брата выгнали со службы, как ты прочла об этом в «Отечестве». Разве это не так было?
— Да! И они имели нахальство сказать мне, что я не имею больше права быть заносчивой!
— Высокомерной, старая!
— Заносчивой, сказали они; я никогда не опустилась бы до такого выражения!
— Что ты ответила? Ты им, конечно, задала как следует!
— Это уж будь покоен! Старуха грозила никогда больше не переступать моего порога.
— Она это сказала? Как ты думаешь, сдержит ли она слово?
— Нет, не думаю. Но старик, наверное…
— Ты не должна называть так своего отца; если услышит кто!
— Ты думаешь, что я позволю себе это при других? Между тем, старик, говоря между нами, никогда больше не придет сюда.
Фальк погрузился в задумчивость. Потом он опять возобновил разговор:
— Что, мать твоя высокомерна? Легко ее оскорбить? Я неохотно оскорбляю людей, ты знаешь это! Ты должна мне сказать о её слабых, чувствительных сторонах, чтобы я мог избегать их.
— Высокомерна ли она? Ты знаешь ведь, на свой лад. Если она, например, услыхала бы, что у нас был вечер и ее и сестер не пригласили, то она никогда больше не пришла бы сюда?
— Наверное?
— Да, на это ты можешь положиться!
— Странно, что люди её положения…
— Что ты болтаешь?
— Ну, ну! Что женщины могут быть так чувствительны! Да, как обстоит дело с твоим обществом? Как ты его называла?
— Союз женского равноправия.
— Какие же это права?
— Жена должна иметь право распоряжаться своим имуществом.
— Да разве она не имеет этого права?
— Нет, не имеет!
— Какое же у тебя имущество, которым ты не можешь распоряжаться?
— Половина твоего, старина. Мое приданое?
— Господи Боже, да кто это научил тебя таким глупостям?
— Это не глупости, это дух времени, видишь ли. Новое законодательство должно было бы постановить так: я получаю половину, выходя замуж, и на эту половину могу покупать что хочу.
— А если ты истратишь, я всё же должен заботиться о тебе? И не подумаю!
— Но ты обязан это делать, а то тебя посадят в тюрьму! Так сказано в законе, если не заботишься о своей жене.
— Нет, это уж слишком! Но было ли у вас уже заседание? Что там были за дамы? рассказывай!
— Мы еще только рассматриваем устав, приготовляем его к заседанию.
— Кто же эти дамы?
— До сих пор только ревизорша Гоман и её сиятельство баронесса Ренгьельм.
— Ренгьельм! Это хорошее имя! Мне кажется, что я уже слыхал его где-то. Но не хотели ли вы основать и кружок рукоделия?
— Учредить, вернее! Да, и представь себе, пастор Скоро придет как-нибудь вечером и прочтет доклад.
— Пастор Скора прекрасный проповедник и вращается в высшем свете. Это хорошо, мать, что ты вращаешься в хорошем обществе. Ничто человеку не вредно так, как плохое общество. Это всегда говорил мой отец, и это сделалось для меня основным правилом.
Госпожа Фальк собрала хлебные крошки и пыталась наполнить ими свою чашку; господин Фальк достал из жилетного кармана зубочистку, чтобы вычистить кофейную гущу, застрявшую в зубах.
Оба супруга стеснялись друг друга. Один знал мысли другого, и они знали, что первый, кто нарушит молчание, скажет глупость или что-нибудь компрометирующее. Они тайно подыскивали новый материал, но не находили подходящего; всё стояло в связи с уже сказанным или могло быть поставлено в связь. Фальк старался найти в этом направлении какую-нибудь ошибку, чтобы излить на нее свою досаду. Госпожа Фальк глядела в окошко, чтобы уловить перемену погоды, но — тщетно.
В это время вошла девушка и подала им спасительный поднос с газетами, доложив одновременно о приходе господина Левина.
— Попроси его подождать! — приказал хозяин.
Левин, на которого новоизобретенное ожидание в передней произвело живое впечатление, был, наконец, введен в комнату хозяина, где его приняли, как просителя.
— Бланк у тебя? — спросил Фальк.
— Я думаю, — ответил оторопевший и достал пачку вексельных бланков на разные суммы. На какой тебе банк? У меня есть на все, кроме одного!
Несмотря на торжественность положения, Фальку пришлось улыбнуться, когда он увидел полудописанные бланки, на которых не доставало имени; векселя без акцептантов и совсем уже готовые, но не принятые к учету векселя.
— Так возьмем банк канатных фабрикантов, — сказал Фальк.
— Это как раз единственный, который не годится, там меня знают!
— Тогда банк сапожников, портных, какой угодно, только поскорей!
Остановились на банке столяров.
— Теперь, — сказал Фальк со взглядом, как будто бы он купил душу другого, — теперь ты пойдешь и закажешь себе платье, но у военного портного, чтобы потом в кредит получить мундир.
— Мундир? Да мне никакого не надо…
— Молчать, когда я говорю! Он должен быть готов к ближайшему четвергу, когда у меня будет большая вечеринка. Ты знаешь, я продал лавку вместе со складом и завтра записываюсь в оптовые торговцы.
— О, поздравляю…
— Молчать, когда я говорю! Теперь ты пойдешь и сделаешь визит! Твоим лукавством и неслыханной способностью нести всякую чепуху тебе удалось приобрести доверие моей тещи. Так спроси-ка ее, какого она мнения о моей большой вечеринке, бывшей в прошлую субботу.
— Разве у тебя…
— Молчи и слушайся! У ней глаза позеленеют, и она спросит, был ли ты приглашен. Этого, конечно, не было, так как и не было никакой вечеринки. Вы выразите друг другу ваше общее неудовольствие и клевещите на меня; я знаю, ты умеешь это! Но жену мою ты похвалишь! Понимаешь?
— Нет, не совсем!
— Этого тебе и не надо, слушайся только! Еще одно: ты можешь сказать Нистрэму, что я стал так высокомерен, что не хочу водить с ним знакомства. Скажу это прямо, тогда ты хоть раз скажешь правду! Нет, постой! С этим мы еще подождем! Ты пошлешь к нему, поговоришь о значении четверга, представишь ему большие выгоды, благодеяния, блестящие виды на будущее и так далее. Понимаешь?
— Понимаю!
— Потом ты с рукописью пойдешь к типографу и потом…
— И потом мы укокошим его!
— Если хочешь выразиться так, пожалуй!
— А я прочту стихи на собрании и раздам их?
— Гм… да! Еще одно! Постарайся встретиться с моим братом! Узнай об его обстоятельствах и об обществе! Привяжись к нему, заручись его доверием — это легко; стань его другом! расскажи ему, что я обманул его; скажи ему, что я высокомерен, и спроси его, сколько он возьмет за то, чтобы изменить имя!
Белое лицо Левина покрылось легкой зеленоватой тенью, что должно было означать, что он покраснел.
— Последнее некрасиво, — сказал он.
— Что? Послушай-ка! Вот что еще! Как деловой человек, я хочу, чтобы в делах моих был порядок. Подпиши-ка мне вот это — на предъявителя! Ведь это только формальность.
При слове «предъявитель» легкая дрожь прошла по членам Левина, он нерешительно взял перо, хотя знал, что отступление немыслимо. Он увидел ряд людей, с палками в руках, в очках, с карманами, наполненными гербовыми бумагами; он слышал стук в двери, беготню на лестницах, вызовы, угрозы, отсрочки; слышал бой часов на ратуше, когда эти люди взяли на плечо свои камышовые трости, и повели его с ядром на ногах к месту казни, где его самого, правда, отпускают, но где под топором, при ликовании толпы, падает его гражданская честь.
Он подписал. Аудиенция кончилась.
Швеция сорок лет трудилась, чтобы добиться того права, которое, обыкновенно, получает каждый, достигший совершеннолетия. Писались брошюры, основывались газеты, швырялись камни, происходили банкеты и держались речи; заседали и составляли петиции, пользовались железной дорогой, пожимали руки, устраивали дружины добровольцев; и, таким образом, добились, наконец, с большим шумом того, чего хотели. Воодушевление было велико. Старые березовые столы оперного ресторана превратились в политические трибуны; пары реформенного пунша вырастили многих политиков, ставших впоследствии большими крикунами; запах реформенных сигар вызвал много честолюбивых мечтаний, которым не суждено было осуществиться; смывали с себя пыль реформенным мылом и думали, что всё хорошо; а потом улеглись спать после великого шума в ожидании блестящих результатов, которые должны были наступить сами собой.
Спали несколько лет, когда же проснулись, то предстала действительность, и увидели, что ошиблись в расчетах. Там и сям послышался ропот; государственные деятели, которых только что вознесли до облаков, подверглись критике; словом, это время отмечено некоторым смущением, вскоре принявшим облик всеобщего недовольства или, как говорят, оппозиции. Но это был новый вид оппозиции; она не была направлена, по обыкновению, против правительства, а против риксдага. Это была консервативная оппозиция, и либералы и консерваторы примкнули к ней, молодые и старые, и наступило большое бедствие в стране.