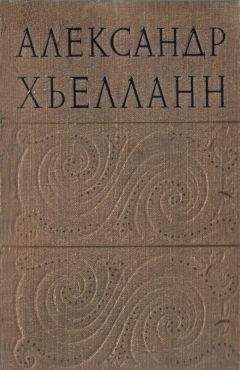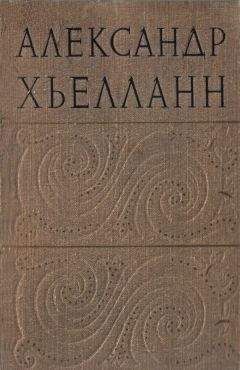По кроты были счастливы по-своему. Одно обстоятельство доставляло им особое удовольствие: все они знали, что уже давным-давно решено избрать в стортинг пастора Крусе и Педера Педерсена. Они и не подумают голосовать за директора банка. А он уже воображает себя депутатом — это просто великолепно! И все кроты заранее радовались, думая о том, какой у него будет вид в день выборов.
X
К десяти часам вечера город совсем притих, словно вымер. У Гарманов, в павильоне, сидели Рандульф, Холк и Кристиан Фредерик. Они уже успели рассказать друг другу про все неприятности сегодняшнего дня и сейчас молчали. Каждый был погружен в свои мысли.
В этот вечер они не открывали окон, выходящих на Приморскую улицу, не заставляли стол, как обычно, бутылками. Коньяк остался за дверью, а бутылки с сельтерской валялись на диване. Правда, перед каждым стоял стакан, но пробки не летели с громким треском через окно на улицу. Друзья потихоньку откупоривали сельтерскую, осторожно выпуская газ из бутылок. Да и разговаривали они вполголоса.
Не то чтобы кто-нибудь из них струсил, но у всех было отвратительное настроение, и даже смелому кандидату Холку уже не хотелось бросать вызов местному обществу и переворачивать город вверх дном.
Понимающие люди говорили, что хороших дней больше ждать нечего. Солнце на закате было огненно-красным, а на юго-западе у горизонта небо потемнело, хотя еще не затянулось тучами.
Но на востоке, где только что взошла луна, небо было синим и ясным. И к нему подымались дымки от костров, которые жгут в Иванову ночь. Видно, там, где-то далеко, за горами, все же были края, куда не добрались кроты. А это значило, что в тех краях живут дерзкие парни и девушки, которые смеют танцевать и веселиться, смеют справлять праздник Иванова дня.
А в самом городе было тихо и не горело ни одного огонька. Лунный свет падал на газоны и клумбы хорошо ухоженного сада Гарманов. Но под ровно подстриженными липами, которые росли вдоль забора, было темно.
Там уже давно стоял человек; вся его фигура выражала растерянность; он то прислушивался к приглушенным звукам голосов и тихому звону стаканов, то порывался уйти, то, как бы против своей воли, направлялся к павильону, но сразу же, сделав несколько шагов, останавливался в нерешительности, а затем снова двигался вперед.
Наконец он вышел из тени деревьев и замер перед открытой дверью павильона, освещенный ярким светом луны. Он стоял спиной к свету, и все трое увидали его силуэт, но не могли как следует разглядеть его лицо. Они только заметили, что он был бледен, и глаза его беспокойно бегали от одного к другому. Кристиан Фредерик, увидевший его первым, на мгновенье смутился, но потом сказал:
— А, это ты, Левдал? Зайди, выпей стаканчик.
Но Томас Рандульф заложил обе руки за спину и проговорил:
— Нет, к черту! С ним я не пью!
Холку и Гарману слова Рандульфа показались слишком жестокими, и они хотели было возразить ему, как вдруг Абрахам Левдал повернулся и бросился бежать. Он бежал не по дорожке, а прямо по газонам и клумбам, продирался сквозь кустарник, мокрые ветки хлестали его по ногам. Полы его тонкого сюртучка развевались на бегу. Он бежал, как вор, по направлению к маленькой калитке в заборе и исчез в тени подстриженных лип.
Кристиан Фредерик вскочил, чтобы удержать Левдала, но когда понял, что ему это не удастся, сказал Рандульфу:
— Ты поступил с ним чересчур сурово. Бедняга он, этот Левдал.
Холк тоже считал, что стаканчик коньяку Левдалу уж во всяком случае можно было дать — ведь он затем только и пришел.
Томас Рандульф ничего не ответил, он допил свой стакан и простился.
Холк и Гарман слышали, как Рандульф спускался по каменной лестнице, ведущей на Приморскую улицу, как запер за собой ворота. Потом раздались его одинокие удаляющиеся шаги, но вскоре и они перестали доноситься; стало совсем тихо — как прежде.
Холк и Гарман до глубокой ночи просидели в павильоне; они рассказывали друг другу разные печальные истории и делились своими тайнами.
А веселая круглая луна, кочующая по небу, увидев, что ни один человек так и не пришел на место праздника, начала собирать над городом длинные влажные нити серых облаков, словно ткала суровое полотно. Перед рассветом заволокло уже все небо, и стал накрапывать дождик, а часам к пяти утра хлынул ливень.
Констансе Бломгрен провела эту ночь так же, как и три предыдущие. По ночам она терзалась больше всего. Вместо того чтобы вверить свою душу небесному жениху, она чуть было не обратила все свои помыслы к земной любви и плотским вожделениям. Днем ее поддерживала уверенность в том, что она ходила по краю пропасти, но спаслась — ей не дали впасть в самый страшный и отвратительный грех. Пока было светло, эти мысли утешали ее — она была преисполнена горячей благодарности к своему спасителю и чувствовала себя почти счастливой, когда говорила с ним или даже когда просто глядела на него.
Но по ночам ее одолевали поистине дьявольские наваждения — особенно в эти душные летние ночи, когда с полей тянуло одуряющим запахом свежего сена и доносился мирный стрекот кузнечиков. В такие ночи сны как бы наполнялись дыханьем тучной плодородной земли, и тогда горячая кровь Констансе начинала кипеть, и она просыпалась, полная жгучего стыда. Вскочив с постели, она проклинала свою красоту и в жарких молитвах просила бога явить милость и дать ей силу отрешиться от соблазна — увянуть, чтобы вернуться в лоно господне.
Констансе прислонилась к оконной раме. Холодный дождь немного успокоил ее, но она совсем лишилась сил и пала духом. Далеко она, видно, зашла в своем грехе, раз дьявол еще и сейчас обладает такой властью над ней. Ах, если бы она могла сознаться во всем этом пастору. Слышал ли он когда-нибудь что-либо подобное? Или, может быть, она худшая из всех?
Когда Констансе высовывалась в окно, то могла видеть угол пасторского дома и ворота. Она обрадовалась, заметив, что у ворот стоит запряженная двуколка, — значит, он проедет мимо ее дома.
Констансе закуталась в серый платок и стала ждать, перегнувшись через подоконник. Подъехав ближе к клубу, пастор словно почувствовал на себе напряженный взгляд Констансе, потому что он поднял голову, поздоровался и проехал мимо. Констансе была так несказанно счастлива, что запела псалом и, одеваясь, впервые за все эти дни улыбнулась своему отражению в зеркале.
Тем временем Мортен Крусе ехал дальше. Дождь его не смущал. Утренний привет Констансе настроил его на веселый лад, да и без того у него на душе было легко, почти празднично. Он любил, когда молодые девушки, бледные от волнения, провожают его горящим взором. Что же касается Констансе, то это была красивая победа, и одержал он ее в самый последний момент.
О, в последние дни произошло немало событий, за которые он должен благодарить бога. Все обернулось как нельзя лучше. Многие из тех, кто до сих пор были его противниками, теперь пришли к нему, а его старые приверженцы заняли более прочное положение в городе и влияние их усилилось. Безбожники, взбаламутившие город, получили по заслугам. А все деньги, которые ушли бы на суетные мирские дела, потекут теперь в его кассу — для бедный слепых.
Во время этой короткой поездки к одной больной женщине, живущей за городом, Мортен Крусе собирался обдумать свою речь на празднике. Но пока его двуколка катилась по улицам, он невольно думал о людях, спавших в домах, мимо которых он проезжал.
Он был осведомлен обо всем, что творилось за стенами этих домов. Он хорошо знал и своих сторонников и своих врагов. В конце концов, и тем и другим была одна цена. Повсюду царили грех и порок, пьянство и разврат. Все эти люди ненавидели друг друга и сеяли лишь зло и раздор. От дома к дому, от улицы к улице распространялся дух нетерпимости, который подавлял слабых и помогал сильным карабкаться вверх, чтобы занять свое место под солнцем.
Но он, Мортен Крусе, стоял теперь над ними. Он всех держал в своих руках. Пусть город мал и край беден — власть всегда остается властью. Его мечты сбылись. В своем краю он был первым. Он властвовал там, где все ему было знакомо и понятно. В одном кармане он держал бога, а в другом — город.
Выехав с мостовой на проселочную дорогу, плотно утрамбованную дождем, он взял вожжи в левую руку, несколько раз сильно хлестнул лошадь и с радостью подумал, что вот так же он управляет и всей округой.
Погода была как раз такая, какую он любил: низкое свинцовое небо, покрытый пеленой дождя и грязи город, словно придавленный к земле густым серым туманом. Нет, дождь ничуть не смущал пастора. На голове у него был резиновый капюшон собственного изобретения, который пристегивался к плащу. И хоть вокруг хлестал ливень, Мортен Крусе сидел в своей двуколке совершенно сухой, словно на нем была прочная хорошая шкура — шкура, которая еще долго ему послужит.