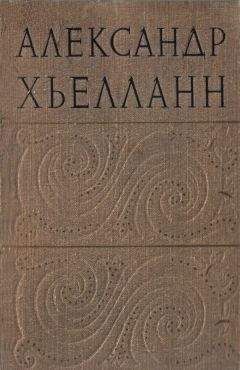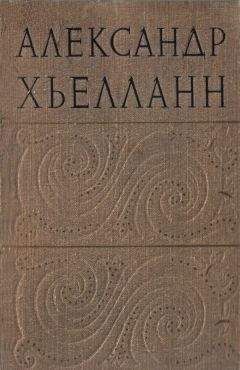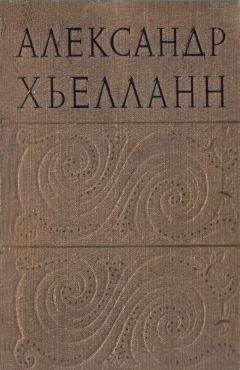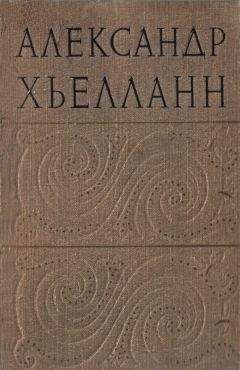Этим закончился годовой отчет, и Мортен был очень рад.
После святок в городе состоялся целый ряд вечеров и балов. В Сансгоре вообще давали только один большой бал в году — в день рождения младшего консула, пятнадцатого мая.
Мадлен никуда не выезжала всю зиму и больше не ездила к Фанни. Поступки Ракел, как всегда, невозможно было предвидеть: то она отвечала своим знакомым «нет, спасибо», то ей могло взбрести в голову нарядиться, приехать на бал и быть или любезной, или резкой, как случится.
Разочарование, которое она пережила из-за кандидата Йонсена, еще больше ожесточило ее. О нем самом она больше не думала, она вычеркнула его из своей жизни, как она себе говорила, и, поскольку это было уже сделано, она с полным равнодушием узнала об огромном успехе, которого он добился, начав по вечерам в молельне толковать библию.
Ракел чувствовала, что душа ее опустошена, и это пугало ее, она относилась ко всему безучастно. В таком настроении безразличия она могла поехать и на бал.
В феврале в клубе состоялся большой бал, на который поехали Ракел и Фанни. Фру Фанни была в голубом шелковом платье, в голубых туфельках, с голубыми цветами в волосах, с голубым веером, но голубизна ее глаз была ярче ее наряда.
Ein Meer von blauen Gedanken
Ergisst sich über mein Herz![21] —
сказал Дэлфин, когда она вошла в зал. Этим комплиментом она жила весь вечер. Она уже не скрывала от себя, что боится потерять его. Она никогда не упрекала его, понимая, что как только начнутся ссоры, он может уйти, а этого она была бы не в силах вынести.
Якоб Ворше танцевал «en Française»[22] с фрекен Ракел. Во время пауз он несколько раз пытался навести разговор на оскорбление, которое она ему однажды нанесла, назвав его трусом. Сначала она просто уклонялась: это была слишком серьезная тема для разговора на балу, но Ворше не сдавался. Не так уж часто он имел случай говорить с нею. Наконец Ракел полушутя обещала ответить на его вопрос, когда кончится танец.
Они сели в уголку одной из боковых комнат. В зале продолжали танцевать. Она сказала:
— Я прошу у вас извинения за мои слова в тот раз. Вы ничуть не трусливее, чем все другие.
— Нам следовало бы когда-нибудь условиться с вами о том, что́, собственно, вы понимаете под словом «трусость», — сказал Якоб Ворше.
— О, это вы очень хорошо знаете!
— Что же, неужели вы действительно считаете трусом человека, который, не разделяя взглядов большинства в религиозных, политических или других вопросах, не высказывает своей точки зрения? Неужели вы полагаете, что причина его молчания только в том, что он, как вы это называете, трус?
— Именно так, — ответила она. — Я это утверждаю.
— С другой стороны, вы, конечно, признаете, — продолжал Якоб Ворше, — что не всякая оппозиция одинаково своевременна; часто бывает, что она может скорее повредить, чем…
— О, я знаю эти отговорки и уловки трусости, — перебила она горячо. — «К чему это? Что я могу один изменить?» — говорят подобные господа и с этими словами укладываются спать! Это именно и есть трусость par excellence.[23]
— Но я могу вам сказать, фрекен Ракел, — отвечал Якоб Ворше, и кровь прилила к его лицу, — что многих людей в продолжение всей их жизни тяжко гнетет невозможность… да, именно невозможность сделать свои взгляды действенными или просто заявить о них всему миру. Но не думайте, что этим людям не хватает смелости. Нет, вовсе нет!
— Можно подумать, что вы говорите о самом себе, — сказала Ракел почти равнодушно.
— Да, именно! — отвечал он торопливо. — Я всегда был человеком тяжелым на подъем, но у меня есть нечто, чего обычно нет у таких людей. Я вспыльчив. Еще мальчишкой я знал это и старался подавить в себе эту черту характера всеми возможными средствами; но порой какая-то сила внезапно охватывает меня всего — как раз тогда, когда более всего необходима рассудительность. Я увлекаюсь, слова льются как водопад, и я почти с ужасом слушаю, что говорю. Да. Вы сами однажды слышали, как я говорил в таком состоянии, фрекен! — добавил он и улыбнулся. — Но вы можете себе представить, как мало подходит для борьбы с предрассудками человек моего типа; ведь для этого нужно терпение и хладнокровие.
— Вполне вероятно, что свойства, которые вы сейчас назвали, полезно иметь, — отвечала Ракел, — но тем не менее неопровержимо, что человек, который имеет убеждения, обязан проводить их в жизнь; в какой мере это ему удается, это не важно, но он обязан попытаться.
— Я расскажу вам, что получилось из моей первой попытки, — сказал Якоб Ворше. — Когда я вернулся домой, два-три года тому назад, я был полон вольных мыслей, вывезенных из-за границы, и первое, что бросилось мне в глаза здесь, на родине, были невероятно плохие условия, в которых живут наши рабочие и ремесленники. Дома, пища, воспитание детей, образование, степень культурности — все, все было значительно хуже, чем, по-моему мнению, должно быть.
Ракел перебила его:
— Я тоже часто думала об этом, но отец говорит, что это вина самого народа: они не хотят жить иначе.
— Это один из наихудших предрассудков вашего уважаемого родителя. Но я-то начал с того, что просто создал объединение; это у нас довольно легко сделать. Вначале все шло хорошо. Когда стали выбирать председателя, кто-то сказал: Ворше будет председателем. Все согласились. К тому же это было довольно естественно. Я стал председателем и руководителем объединения и положил много сил, чтобы научить людей тому, что они вполне могли понять и что им могло пригодиться в жизни. Но вот со всех сторон я стал слышать намеки на то, что, мол, многие удивляются, почему не было настоящих выборов председателя. Я не обращал на это особенного внимания, но назначил день для выборов нового председателя. Да… так вот… день этот пришел, и председателем выбран был другой.
— Пастор Мартенс, не правда ли? — спросила Ракел.
— Да, именно! Я был ошеломлен и не скрывал этого. Пастор Мартенс никогда не посещал ни одного заседания объединения до того вечера, когда он был выбран! Это было для меня необъяснимо; но поскольку у нас нетрудно разузнать о чем бы то ни было, если только не стесняться расспрашивать, я скоро убедился в том, что затеял все это пробст Спарре. Я, конечно, пошел прямо к нему.
— Нет! Это неслыханно! — воскликнула Ракел. — Ну, и что же сказал пробст?
— Ничего! Он действительно совершенно ничего не сказал мне; и не подумайте, что он молчал; наоборот, он говорил, говорил своим красивым голосом, приветливо, улыбаясь, почти одобрительно. Но с его уст не сорвалось ни одного слова, которое относилось бы к делу. Я не мог, вызвать его на обсуждение хоть какого-нибудь вопроса, не мог получить объяснения, почему вообще он оттеснил меня от руководства объединением и выдвинул на мое место своего капеллана; он ничего не отрицал и ничего не утверждал, и, наконец… видите ли — в этом всегда мое несчастье! Наконец я настолько рассердился, видя, как он сидит, откинувшись в кресле, видя его белые локоны и эту, вечную улыбку, что я осуществил одну из самых неудачных моих атак и произнес поистине громовую речь.
— Ну, и что же пробст? Возмутился? — спросила Ракел.
Ворше рассмеялся:
— Да легче из гнилушки высечь искру, чем заставить пробста возмутиться. Нет. Пробст был все так же тих и ласков, и когда я уходил, пожал мне руку и выразил надежду в самом скором времени увидеть меня снова. Но позже я получил вознаграждение за этот визит.
— Каким образом? — спросила она.
— Да, видите ли, после этого меня многие стали как бы чуждаться. Это выражалось в самых различных формах: в делах, в обществе — повсюду. Бедная матушка моя слышала это в своей лавочке от покупателей; постоянное скрытое недоброжелательство в форме сожаления о «вольнодумце», о «безбожнике», и т. д., и т. д. Я уверен, что большинство из них считает исключительно удачным случаем то, что мне вовремя помешали совращать и портить, именно так: совращать и портить наше почтенное рабочее сословие. Ну вот тогда-то я и сказал себе: если существует столь большое различие между моими воззрениями и воззрениями тех, которым я хотел помочь, да еще при моем характере, — мне ничего иного не остается, как уйти в свою работу и сидеть смирно.
— Смирно! Да вот снова это самое! — воскликнула Ракел и посмотрела вперед. — Но нет! Нет! Вы не имеете права!
— Разрешите мне теперь сказать кое-что о вас, фрекен Гарман, — сказал Якоб Ворше, набравшись смелости. — Ни я, ни кто-либо другой из вашего окружения не сможет по-настоящему выполнить то, чего вы требуете. Но я назову вам одного человека, который сможет: это вы сами! У вас, фрекен Гарман, имеются все условия, которых нам всем недостает!
— Я? Женщина? Хуже того: «девушка хорошего общества»? — Ракел посмотрела на него с величайшим удивлением. — Но каким образом, хотела бы я знать?!