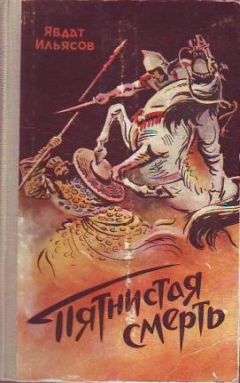— Стой! Посмотри-ка мне в глаза. Так. Ты странный человек, Гау-Барува. Или ты — прожженный лукавец, или… не такой уж мудрец, каким тебе хочется выглядеть. Разве не ты сбивал меня с толку? „У них даже панцирей нет, мечей не придется вынимать, разгоним, прогоним…“ А теперь куда гнешь? „Опасны, ужасны…“ Что это значит?
— Государь! Неужели ты усомнился в моей преданности? Я верен тебе. Но я допустил ошибку. И обезьяна с дерева падает. И охотник может попасть в западню. Не спотыкается только лежащий в постели. Разве их поймешь, этих проклятых саков? Вкус волчьих ягод узнают, лишь отведав. Благоразумие, государь! Главное — дело. А для дела нужно, чтоб Спаргапа не умер. У меня хорошая мысль. Тот сак, Фрада, не похожий на других саков, говорит Томруз без ума от сына. Любит больше, чем жизнь свою. Так вот… что, если мы снова отправим к Томруз глупца Михр-Бидада?
— Опять?! Опять разговоры?
— Но как же иначе, государь? Сам Ахурамазда послал Спаргапу к тебе. Да, сам Ахурамазда! Спаргапа — чудесная находка для нас. Не простит добрый бог, если мы упустим случай, представившийся нам по его премудрой воле.
— Хм. Коли уж сам Ахурамазда… Ладно. Но если Томруз вновь не согласится на сдачу?
— Не согласится?! Что ты, государь. Чтоб мать… Невероятно. Я знаю их, матерей. Томруз и себя, и свой народ отдаст на растерзание, лишь бы сыну голову сохранить. А не согласится — что ж? Пусть ей будет хуже. Наша мощь, слава Ахурамазде, не иссякла с потерей каких-то двух с половиной тысяч варварских детей. Фрада покажет место, где скрылась Томруз. Найдем, перережем всех — и делу конец!
Надрывисто, плачуще и стонуще, заскулила где-то собака.
Спаргапа очнулся. Собака? Нет. Это он сам скулил во сне.
„Боже! — подумал Спаргапа, холодея. — Неужели правда — то, что происходит со мной? Горе! Горе моей голове“.
Каждое утро задавал он себе страшный вопрос. Едва проснувшись. В те смутные мгновения, когда человек уже не спит, но еще не открыл глаз. Когда мозг пленника переходит от тяжелого забытья к печальному бодрствованию.
Спаргапе все еще не верилось, что он в плену. Примерещилось!
Но нет — не могла примерещиться так ощутимо и явственно темнота глубокого колодца, куда его бросили персы. Сырая глина под замерзшим боком. Звякание толстых бронзовых цепей, которыми враги приковали узника к тяжелой, как гранитная глыба, деревянной колоде. Не примерещилась тупая боль, ломота в костях, тошнота.
В первый день, когда Спаргапу схватили, было легче. Одуревший от вина, он ничего не чувствовал, не помнил, не понимал и не старался понять. Потом бесчувственность прошла — верней, перешла в невыносимую похмельную болезнь, тем более мучительную, что вместе с телом страдала и терзалась душа. Боже! Мать… Что скажет мать? Что скажут саки?
Он крикнул позавчера стражу, заунывно напевавшему, у края колодца, чтоб тот принес кувшин вина. Лучше опять напиться. Одуреть вконец. Отравиться вновь этой жидкой дрянью, лишь бы не думать. Лишь бы не думать. Не чувствовать. Не вспоминать… Страж заругался.
— А мочи кобыльей не принести? И глотка тухлой воды не получишь, собака!
Так и не дал — ни вина, ни воды. Пришлось пленнику сосать мокрый песок, сгребая его горстями со дна колодца.
„Для чего я взял тебя с собой? — вспомнил Спаргапа слова Белого отца. — Старайся понять. Не поймешь — пропадешь. Скажу напоследок: слушайся Томруз, Хугаву слушайся…“.
Ничего не хотел понимать Спаргапа.
Никого Спаргапа не хотел слушаться.
А ведь как терпеливо, как мягко, с какой заботливостью наставляли они его, отговаривали от дурных поступков — и отец, и мать, и добрый друг Хугава!
Как Пятнистая смерть — дурных собак, изорвал Куруш глупых воинов Спаргапы… Он заскрипел зубами, в бешенстве ударился головой о колоду и потерял сознание.
Сколько дней он пролежал без памяти?
Может, день. Может, десять дней. Пришел в себя от потока воды, хлынувшей сверху. Утопить хотят? Нет. Поток иссяк, едва пленник застонал и зашевелился. У края колодца, загораживая плечами светлый круг, сидел какой-то человек. Юный сак не видел его лица, склонившегося к черному провалу — оно было покрыто тенью.
— Спаргапа! — глухо отдалось в колодце, послышался незнакомый, но добрый голос. — Ты слышишь меня, о сын Томруз?
— Слышу, — простуженно прохрипел Спар и забился в кашле. В самую жаркую пору ночью в пустыне холодно до озноба. А сидеть вдобавок на дне колодца — все равно, что мерзнуть во льдах. Даже хуже, ибо сырость опасней мороза.
Человек наверху подождал, когда пленник перестанет кашлять. Спаргапа с трудом прочистил грудь, забитую мокротой, и умолк. Человек вновь подал голос:
— С тобой говорит Гау-Барува, советник царя царей. Ты помнишь меня? Мы приезжали с Утаной к твоей матери.
— Помню! — встрепенулся Спаргапа. Так приятно услышать после многодневной тишины человеческую речь. Не назовешь же человеческой речью гнусную ругань стражей.
— Я хочу тебе добра, юный друг. Сейчас наши люди отправятся к Томруз на переговоры. Не передашь ли ты ей что-нибудь?
Спаргапа рванулся, цепи зазвенели. Мать! Эти счастливцы увидят его мать. Они будут стоять рядом с нею, беседовать с нею…
Не понимал он раньше, какая светлая радость — быть вместе с матерью. Слышать ее голос, пусть недовольный. Ощущать на себе ее взгляд, пусть строгий.
Всего лишь несколько дней назад Спару казалось, что он так и будет вечно хорохориться, ходить перед матерью задиристым петухом, а она все будет без устали, терпеливо и любовно возиться с ним, уговаривать его, успокаивать его, ублажать его, угождать ему, ненаглядному сыну.
Но — прошло всего лишь несколько дней, и мать так страшно отдалилась от него, что даже в робких мечтах он уже не надеялся ее когда-нибудь увидеть. Будто она умерла.
— Ну? — поторопил Гау-Барува.
— Пусть ей скажут… пусть скажут… — Спаргапа с трудом поднес отягощенную цепями руку к груди, сорвал амулет — круглую золотую пластинку с чеканным изображением парящего кречета. — Пусть передадут ей мой амулет. Спустите веревку, я привяжу. И пусть скажут так: „Юный кречет — в мышиной норе. Спаси, мать“. Слышишь, Гау-Барува? „Юный кречет — в мышиной норе. Спаси, мать“. Юный кречет… спаси! Спаси, мать!
— Хорошо, молодой друг. Потерпи еще немного. Я велю, чтоб тебе дали воды и мяса.
Гау-Барува удалился. Новые терзания. Спаргапа проклинал себя — так мало он передал матери! Надо было сказать, как ему плохо. Сказать, чтобы она вызволила сына любой ценой. Сказать, что… Эх, что теперь говорить? Поздно.
— Вернулись? — спросил он у стража спустя полчаса.
— Кто?
— Люди, посланные к Томруз.
— Ты что — рехнулся? Они еще не выехали.
Он не мог есть. Он не мог пить. Ярко-голубой круг высоко над головой сменился сине-черным, с золотистыми точками звезд, затем опять ярко-голубым, и так много-много-много раз… Тысячу раз, быть может. Или это лишь казалось пленнику?
Невыносимо ожидание на свободе. А в неволе? Ожидание в неволе пытка, сравнимая лишь с вытягиванием жил, с мучениями на остром колу. Время для узника — кратко, точно мгновение, но мгновения — длительны, как годы. Такова несообразность ощущений в темнице.
— Вернулись?
— Скоро вернутся.
Спаргапа чутко прислушивался к тому, что происходило наверху. Застучат ли копыта, заржут ли кони, крикнет ли воин, поднимется ли неведомо почему в лагере шум и гам — встрепенется Спаргапа, забьется в оковах, словно привязанный к насесту, только что пойманный, еще необученный кречет.
— Вернулись?
— Отстань, скотина!
У юнца начинался слуховой бред; порой ему явственно слышался отдаленный плачущий голос матери:
— Спа-а-ар…
Он задирал голову, отчаянно глядел на круг света, как волк из волчьей ямы, и спрашивал, спрашивал, спрашивал без конца, донимая стража, допекая стража, прожигая стража своей нетерпеливой настойчивостью до самых почек:
— Вернулись?
— Замолчи, болван, или я тебя прикончу!
Не прикончишь, ослиная кость. Мать выручит Спаргапу. О мать! Разве она оставит сына в беде?
В детстве Спара ударила копытом лошадь. По самому носу ударила, и нос превратился в кусок окровавленного мяса. Хорошо помнит юнец, как рыдала, как рвала на себе волосы Томруз. Видно, боялась, что сын на всю жизнь останется уродом. Мальчик не мог дышать через разбитые ноздри, рот же во сне закрывался сам собой. Чтоб не задохнулся сын, мать вставляла ему на ночь в зубы палочку. Пользовала рану целебными мазями, настойками из лечебных трав. И добилась своего — выправился нос, только шрамы остались у левого крыла и на кончике. Маленькие шрамы, незаметные.
Нет, мать не даст Спаргапе пропасть!
— Твой сын в руках царя царей.
— Он жив?! — женщина бросилась к послу и прижала его к себе крепко и ласково, как младшего брата.