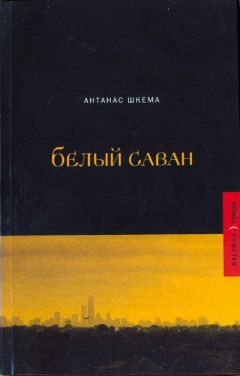«Эх, вы, ребетенки, марш к Пресвятой Богородице, пускай выдаст вам по прянику Во Имя Меня». И ангелы летят стайкой, щиплют друг друга, и по всему небу такой шум и тарарам, что даже святой Фома Аквинский отрывается от письменного стола, поднимает голову от письма Jacques Maritain[58], в котором утверждает, что Exodo[59] позволяет такое вот толкование: Бог не есть бытие (всякое бытие может быть и может не быть), но Он есть бытие.
Я — куст акации, который пересадили. Мои корни сосут соки новой земли, и хотя несколько веточек завяло, верхушка моя зеленеет клейкими листочками, и на нее уселась грациозная птица. Она поднимает свои лапки, свои ножки в серых чулочках и, довольная, распевает песенку.
Oh, Susan Van Dusan
The goal of my choosin
She sticks to my bosom
Like glue…[60]
Я квалифицированный отшельник, которому смертельно надоела пустыня, надоели власяница, бич, медитация, подстилка из мха. Отшельник, который забредает в большой город и вспоминает, что дома в погребе у него закопан клад, так и лежат там золотые. И он заговаривает с молодой девушкой.
Я — литовский домовой, нашедший себе друга женского рода.
И мы разыщем того хозяина, который за труды наши подарит нам обоим по паре льняных штанишек.
Я — 87-й человечек в восьмимиллионном Нью-Йорке.
Я счастливый.
* * *
Пять минут второго. Гаршва покидает отель. Ночь теплая. Погасли рекламные огни. Шаги гулко стучат, как тогда в Каунасе. Та же прохлада, звезды, редкие прохожие. Каунас тянется до самых небес. Раскачиваются башни небоскребов, смолкли колокола костела в маленьком городке на болотах, старое привидение сунуло за пазуху ивовую дудочку и отправилось спать на Third Avenue. Океан успокоился и больше не шумит. Буксиры и лодки прильнули к берегу. Моряки спят в обнимку с дешевыми возлюбленными. Завтра две светловолосые девушки прыгнут в голубое Балтийское море. Темная стеклянная дверь конфекциона Gimbels. Ступени, ступени, ступени. Совсем как лошади, стоя спят манекены, и эхо доносит шум подземки. У входа в «Men» качается пьяный в стельку мужчина, он беседует сам с собой. «Ничего, я хитрый. Завтра я ему покажу, сукину сыну!» На перроне ждут поезда ночные рабочие, уборщицы зданий, молодежь, возвращающаяся со свиданий, и Антанас Гаршва. Шум приближается, и вот из-за поворота вылетает поезд. Два зеленых глаза, два красных, белое окно. Скрипят тормоза, распахиваются двери. Внутри плетеные сиденья, сонные лица. Возвращение. Домой, домой. В.М. Т., Broadway line. Завтра. Послезавтра. Завтра и послезавтра — какие магические слова.
Антанас Гаршва встает в девять часов. Он бреется, моется, съедает два яйца, выпивает чашечку кофе. После чего спускается в магазин и звонит оттуда доктору Игнасу.
— Привет. Хотел бы повидать тебя.
— Давно пора. Как самочувствие? — укоризненно отвечает доктор Игнас.
— Замечательно. Вчера все перевернулось вверх ногами. О, прости. Наоборот. Все стало на ноги. И все-таки хотелось бы повидаться.
— Если самочувствие у тебя хорошее, приезжай около двух. Сейчас я отправляюсь к своим пациентам.
— Порядок. Буду в два. От тебя поеду на работу. До встречи.
— Пока.
Гаршва возвращается домой. Садится к столу. Берет лист бумаги. Находит ручку.
Этим утром в комнате как-то уютно. Солнечный луч проникает через окно, освещая на картине Шагала небесно-синие волосы женщины. Летает книжная пыль и соединяется с сигаретным дымом. В комнате преобладает чистый синий цвет — небесная лазурь. Скрипит кресло, скрипит перо. Мерно дышит пишущий человек.
Наконец-то на меня снизошел настоящий покой. Я объективен, я медиум, и я не хочу быть абсолютно оригинальным. Душой я связан с миром. Я буду таким же неизвестным, как древний японский живописец. Пойду по стопам великих мастеров. И я благодарю своего Бога за забытые куски жизни: детские молитвы, борьбу, подкидыша. Благодарю за русачка. Я был уверен, когда молился, плыл, мечтал о ребенке, убивал человека. Это был синтез тела и души. Я Чингиз-хан, который после долгого ливня, ясным утром, опять слышит птичьи голоса, он откидывает полог и видит выкупавшееся солнце, оно светит над лесом.
Мои реторты перегнали мою жизнь, мои наблюдения, мои размышления. Несколько зернышек. Несколько стихотворений, Одна-единственная, необозримая правда.
Я забыл о том, что живем один раз. И жил, словно готовился к другим новым жизням. Оттого и потерял много времени. Хотя… «life begins at forty»[61], — объявил рядовой американец. Мужчина формируется к сорока годам, утверждают римляне. Мне сорок лет, и я начну жить. И когда ко мне пожалует смерть, спокойно ее поприветствую: «Ave Caesar, vivans te salutat!»
«Lioj, ridij, augo, lepo, leputeli», — заливается соловей. Топкое болото. Посвистывают в воздухе айтвары. Выпученными глазами следят за тем, что происходит во Вселенной, жабы. Башни литовских святилищ, треугольные ели, поднимаются к звездам. Родиться, жить, умереть. Рассесться по высоким скамьям. Два ободранных домовых приводят Христа. «Подари каждому из нас по паре штанишек, преврати болотную воду в красное вино». В медовых сотах, в ржаных колосьях, в руте и лилиях, в сплетении корявых стволов, в изломе веток, в струении вод — Ты.
Lioj. Ridij. Augo.
Я понял себя самого. Я сложил осколки. Ребенок разглядывает пейзаж. Дорога, речушка, горы, косуля. Уж, прижавшийся к земле. Ведьмы-лаумы, расчесывающие свои косы. Плывущий туман. Замутился денечек, замутился мой ясный. Крылья чибисов, удары колоколов, dominus vobiscum.
Антанас Гаршва закуривает уже в который раз. Он чувствует боль в затылке. «Слишком много курю», — думает он. Гаршва гасит сигарету и разламывает ее в пепельнице. И в нерешительности вертит в своих пальцах ручку. Боль не такая уж и навязчивая. Она пройдет. Как и мрачное прошлое. В два часа к доктору Игнасу. Завтра — Эляна. Завтра? Завтра поговорю об отпуске. И возможно, поменяю отель. Все обновится. Любовь, поэзия, люди, улицы.
Больше не нужно будет взывать — Мой Лифт, услышь меня. Мое Детство, услышь меня. Моя Смерть, услышь меня.
Больше не нужно будет взывать — Мой Грех, Мое Безумие, услышьте меня. Мутится денечек, мутится мой ясный. Хор домовых, хор духов земли и полей.
Я успею. Обещаю. Я подарю тебе. Кольцо с карнеолом. Вагон с площади Queens. Свою любовь.
* * *
Эляна принимает ванну. Белая пена скользит по ее ногам, лопаются радужные мыльные пузыри. «Он будет целовать мои ноги. Медленно. Когда он целует мне щиколотки, я верю в свое счастье. Я не стану выжимать из него все соки. Буду сдержанней».
Она поднимается, серебристая Афродита в жестяной ванне, включает душ, и теплые струи воды смывают пену.
«Я нажму кнопку звонка, и дверь откроется. Скорей, я не стану прятать пальцы. Завтра».
Боль какая-то назойливая. Макушка просто горит. Но страха нет. Зато покоя тоже как не бывало. Боль и безразличие. Внезапные покалывания, и затем внутри глухо перекатывается ком. Этот ком все растет, сейчас он прорвет оболочку, вырвется наружу. Перо больше не скрипит. И таблеток, как назло, нет. Гаршва встает, идет на кухню и возвращается со стаканом. Выпивает виски «Белая лошадь». Снова садится к столу. Снова берет ручку.
Женщина в белом играет. О felix culpa quae talem ac tantum meruit habere redemptorem. Две усопшие души и клавесин. По гранитным ступеням бегут позолоченные статуи. Факелы у них в руках погасли. И радуются скульптурные головы дворян. Эй, ridij augo! Эй, felix culpa! Я люблю голубые жилки на твоих ногах. Мокрые ресницы. Меч Тристана и Изольды, родинку у тебя на шее. Lioj.
По песку ползут янтарные жучки. К морю. В голубую Балтию. «Ой, цвети, белая яблонька», — поет душа, одетая в белый саван. О felix culpa! Мои детство, жизнь и смерть. Lioj.
Боли уже нет. Внутри огромный ком. Он даже не помещается в мозгу, он застрял в черепе. «Надо ехать к доктору Игнасу», — мелькает спасительная мысль. Гаршва торопливо надевает костюм. Пальцы не слушаются. На брюках заело молнию, но все-таки с нею удалось справиться. Галстук? Он ни к чему. Деньги? На столе лежит восемь долларов. На такси хватит.
Рыжий человек из лифта. Вспомнился вдруг почему-то. А может, он — смерть? Или Господне предупреждение?
Господи, Ты видишь, как я несчастлив.
Я знаю, что поздно, но все равно спаси меня.
Я обещаю.
Я порву свои записки, свои стихи.
Не буду думать о том, о чем нельзя размышлять смертным.
Буду молиться.
Уйду в монастырь.
Господи, хоть на пороге смерти помоги мне.
Я верую. Я верю. Ты прощаешь в последнюю минуту.
Отпускаешь грехи всей жизни.
Боже, Боже, в Твои руки…
Го-о-о-осподи-и-и-и!..
— Зоори, Зоори, — шепчет Гаршва.
Где этот Зоори? Кто этот Зоори? Почему существует Зоори? Я потерял Зоори. Помогите мне найти его! Может, он улетел? Пасите! Антанас Гаршва визжит. Он орет. И колотит кулаками в стену. Выскакивают кнопки. Репродукция Шагала взлетает кверху и теперь висит вверх ногами.