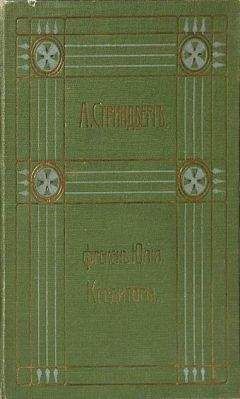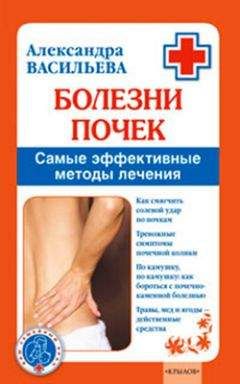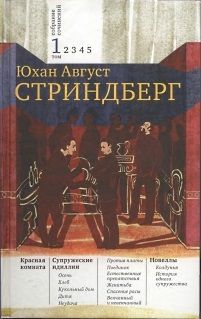Фальк же остановился, задумавшись, над могилой и глядел в глубину; он видел сперва только темный четырехугольник; но понемногу выступило светлое пятно, которое всё росло и приняло определенную форму; круг, блестевший, как зеркало, — это была безымянная дощечка гробика, светившаяся в глубине, отражая свет неба. Он уронил свой венок; слабый, глухой звук, и свет погас. Тогда он повернулся и последовал за другими.
У кареты стали обсуждать, куда ехать; Борг быстро решил и скомандовал:
— Ресторан Норрбака!
Через несколько минут общество очутилось в большом зале, в первом этаже; их встретила девушка, которую Борг приветствовал поцелуем и объятьями; потом он бросил шляпу под диван, приказал Леви снять с себя пальто и заказал порцию пунша, двадцать пять сигар, пол литра коньяку и голову сахару. Наконец, он снял и сюртук и в одном жилете сел на единственный диван в зале.
Лицо Струвэ начинало сиять, когда он увидел приготовления к попойке и он потребовал музыки. Леви сел за рояль и отбарабанил вальс, в то время как Струвэ обхватил Фалька и стал ходить с ним взад и вперед под легкий разговор о жизни вообще, о горе и радости, о непостоянстве человеческой природы и тому подобном, из чего он выводил, что грешно горевать о том, что боги — он сказал боги, чтобы Фальк не считал его пиетистом за то, что он сказал «грешно»— что боги дали и отняли.
Этот разговор оказался интродукцией к вальсу, который он вскоре затем протанцевал с девушкой, внесшей пунш.
Борт наполнил стаканы, подозвал Леви, кивнул на стакан и сказал:
— Выпьем-ка теперь на брудершафт, тогда мы потом можем быть грубее друг с другом!
Леви выразил свою большую радость по поводу этой честь.
— На здоровье, Исаак, — сказал Борг.
— Я не Исаак…
— Ты думаешь, что меня интересует, как тебя зовут? Я зову тебя Исааком, и ты для меня Исаак!
— Ты веселый чёрт…
— Чёрт! Тебе не стыдно, жиденок?
— Ведь мы же хотели быть грубыми…
— Мы? Я хотел быть с тобой грубым!
Струвэ показалось, что он должен вмешаться.
— Спасибо, брат Леви, за твои хорошие слова. Что это была бы за молитва?
— Это наша погребальная молитва.
— Это было очень хорошо!
— Это были только слова, — вмешался Борг. — Неверная собака молилась только за Израиль; значит, это не относилось к покойнику!
— Всех некрещеных причисляют к Израилю, — ответил Леви.
— А потом ты напал на крещение, — продолжал Борг. — Я не потерплю, чтобы кто-нибудь нападал на крещение — мы это сами сделаем! Потом ты коснулся учения о возмездии. Оставь это; я не терплю, когда другой касается нашей религии.
— Борг прав, — сказал Струвэ, — если мы согласимся не касаться крещения и иных священных таинств, я попрошу, чтобы все разговоры этого легкомысленного рода на сегодняшний вечер были исключены из нашей среды.
— Ты просишь? — закричал Борг. — Чего ты просишь? Ну, я прошу тебя, если ты будешь молчать. Играй, Исаак! Музыки! Почему молчит музыка на празднестве Цезаря? Музыки! Но не подноси мне ничего старого! Чтобы было новое!
Леви сел за рояль и сыграл увертюру из «Немой».
— Так, теперь поболтаем, — сказал Борг. — У вас такой печальный вид, господин Фальк; идите сюда, выпьемте.
Фальк, испытывавший в присутствии Борга некоторую неловкость, принял предложение очень сдержанно.
Но разговора не завязалось, опасались чего-то в роде столкновения.
Струвэ бродил кругом, как моль, ища развлечения, не находя его, он постоянно возвращался к столу с пуншем; он иногда делал несколько танцевальных па, воображая, что весело и празднично; но этого не было на самом деле.
Леви ходил взад и вперед между роялью и пуншем; он сделал попытку спеть веселую песню, но она была так стара, что никто не хотел её слушать.
Борг орал, чтобы прийти в «настроение», как он говорил, но становился всё тише и почти робел.
Фальк ходил взад и вперед, молчаливо и зловеще, как грозовая туча.
По приказу Борта внесли обильный ужин «сексу». В угрожающем молчании уселись за стол. Струвэ и Борг чрезмерно прикладывались к водке. Лицо Борга походило на оплеванную печную заслонку; красные пятна выступали на нём, и глаза стали желтыми. Струвэ же походил на покрытый лаком эдамский сыр, равномерно красный и жирный. Фальк и Леви выглядели в их обществе, как дети, в последний раз ужинающие у людоедов.
— Передай пасквилянту лососину, — скомандовал Борг Леви, чтобы прервать монотонное молчание.
Леви подал блюдо Струвэ. Тот поднял очки и забрызгал ядом.
— Стыдись, жид! — завопил он и бросил Леви салфетку в лицо.
Борг положил свою тяжелую руку на голый череп Струвэ и сказал:
— Молчи, сволочь!
— В какое общество я попал! Я должен сказать вам, милостивые государи, что я слишком стар, чтобы позволить обращаться с собой, как с глупым мальчишкой, — сказал Струвэ дрожащим голосом, забывая свое обычное добродушие.
Борг, который теперь весь посинел, встал из-за стола и сказал:
— Тьфу, чёрт! Вот так общество! Заплати, Исаак, я тебе после отдам! Я ухожу!
Он надел пальто, шляпу, наполнил большой стакан пуншем, налил коньяку до краев, осушил его залпом, затушил мимоходом несколько свечей, разбил несколько стаканов, засунул горсть сигар и коробку спичек в карман и вышел, качаясь.
— Жаль, что такой гений так пьет! — сказал Леви благоговейно.
Через минуту Борг опять был в комнате, подошел к столу, взял канделябр, закурил сигару, пустил Струвэ дым в лицо, высунул язык и показал коренные зубы, потом потушил свечи и опять пошел.
— Что это за отброс, с которым ты меня свел? — спросил Фальк строго.
— О, дорогой мой, он сейчас пьян, но он сын штабного врача и профессора…
— Я не спрашивал, кто его отец, а кто он сам, и ты отвечай мне, почему ты позволяешь такой собаке издеваться над собой! Можешь ты теперь ответить на вопрос, почему он знаком с тобой?
— Прошу оставить глупости, — сказал Струвэ важно.
— Изволь, оставляю тебе все глупости мира, держи их при себе!
— Что с тобой, брат Леви? — сказал Струвэ участливо. — У тебя такой мрачный вид.
— Жаль, что такой гений, как Борг, так страшно пьет, — сказал Леви.
— Как и в чём проявляется его гений? — спросил Фальк.
— Можно быть гением и не писать стихи, — сказал Струвэ ядовито.
— Я думаю, писание стихов не предполагает гениальности, но еще меньше — скотского поведения! — сказал Фальк.
— Не заплатить ли нам теперь? — сказал Струвэ и устремился к выходу.
Фальк и Леви заплатили. Когда они вышли, шел дождь, и небо было черно; только газовое зарево города стояло, как красное облако над югом. Наемный экипаж уехал домой; им оставалось только поднять воротники и идти.
Они дошли только до кегельбана, когда услыхали страшный крик.
— Проклятие! — звучало над их головами; и теперь они увидели Борга, качающегося на одной из верхних веток липы. Ветвь согнулась почти до земли, затем поднялась и описала огромную дугу.
— О, это поразительно! — воскликнул Леви. — Это немыслимо!
— Какой безумец, — улыбнулся Струвэ, гордясь своим протеже.
— Сюда, Исаак, — ревел Борг наверху, в воздухе, — сюда, жиденок, я хочу занять у тебя немного денег!
— Сколько ты хочешь? — спросил Леви и замахал бумажником.
— Я никогда не занимаю меньше пятидесяти.
В следующее мгновение Борг соскочил с дерева и засунул бумажку в карман.
Потом он снял пальто.
— Надень его опять! — сказал Струвэ повелительно.
— Что ты говоришь? Мне надеть его опять? Как? Ты приказываешь? Может быть, ты хочешь драться со мной?
При этом он хлопнул шляпой о ствол дерева так, что она разорвалась, снял фрак и жилет и предоставил дождю лить на рубашку.
— Подходи, сволочь, будем драться!
Он обхватил Струвэ и отступил с ним так, что оба полетели в ров.
Фальк поспешил отправиться в город. Долго еще слышал он позади себя взрывы смеха и крики Леви: «Это божественно, это поразительно!» И крики Борга: «Предатель! Предатель!»
Часы в ресторане при ратуше в X—кепинге прогремели семь раз в один октябрьский вечер, когда в дверь вошел директор городского театра. Он выглядел сияющим, как может сиять жаба, плотно поевшая; он был рад, но мускулы его лица не привыкли к таким движениям, они стягивали кожу в беспокойные складки и еще более уродовали его ужасную внешность. Он милостиво поздоровался с маленьким иссохшим хозяином, стоявшим за стойкой и считавшим посетителей.
— Wie steht's? — крикнул директор по-немецки, — говорить он давно уже отвык.
— Schönen Dank! — ответил хозяин тоже по-немецки.
Так как запас немецкого у обоих вышел, то они перешли на шведский.
— Ну, что скажете о малом, о Густаве? Разве он не был прекрасен в роли дона Диего? А? Я думаю, что могу создавать актеров? Что?