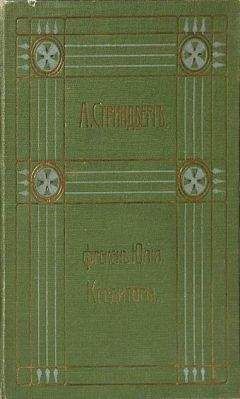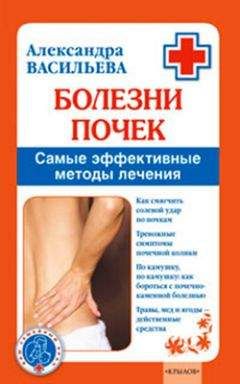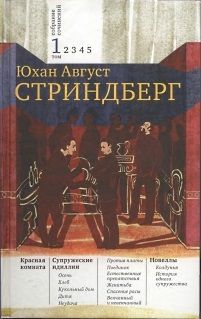Ученые исследования были продолжены. Этот человек украл немного гипса с вестересских фигур и отправил его вместе с гипсом из трэскольской ризницы в Эколь-политехник (не знаю, как это и прочесть). Ответ уничтожил насмешников: анализом было установлено, что оба гипса были одинакового состава: 77 частей извести и 23 серной кислоты; значит (!) фигуры принадлежали к одной и той же эпохе.
Возраст фигур был, таким образом, установлен; сохранившуюся срисовали, и рисунок «послали» академии (у них поразительная страсть всё «посылать», у этих ученых!); оставалось только определить и восстановить разбитую. Два года пересылались эти два мешка взад и вперед между Лундохм и Упсалой. Лундский профессор, как раз избранный ректором, написал трактат о фигуре для своей ректорской речи и уничтожил профессора из Упсалы: тот ответил брошюрой.
К счастью, в то же время профессор стокгольмской академии искусств выступил с совершенно новым мнением; тогда объединились Ирод и Пилат и набросились на стокгольмца, которого они разорвали со всем бешенством провинциалов.
Соглашение же обоих профессоров покоилось на следующем: разбитая фигура представляла неверие, потому что сохранившаяся фигура изображает веру, символ которой крест. Предположение (лундского профессора), что разбитая фигура представляла надежду, потому что в одном из мешков нашли острие якоря, было отвергнуто, потому что это предполагало бы еще и наличность третьей фигуры, Любви, от которой не осталось ни следа, ни даже места; затем (ссылкой на богатую коллекцию наконечников стрел в историческом музее) было доказано, что это не острие якоря, а наконечник стрелы, которая принадлежит к оружию, символизирующему неверие, (см. послание к Евреям 7, 12, где говорится о слепых выстрелах неверия; сравнить также с Исаией 29.3, где несколько раз упоминаются стрелы неверия). Форма наконечника, вполне совпадавшая с формой времен наместника Стурэ, уничтожила последнее сомнение о возрасте фигуры.
Моей задачей оказалось сделать по идее профессоров фигуру Неверия в контраст к Вере. Программа была дана, и я не колебался. Я искал мужскую модель, потому что это должен был быть мужчина; мне пришлось искать долго, но я нашел его; да, мне думается, что я нашел Неверие в его личном воплощении — и работа удалась мне блестяще!
Вот стоит теперь актер Фаландер налево от алтаря, с мексиканским луком из пьесы «Фердинанд Кортец» и в разбойничьем плаще из «Фра Диаволо»; но люди говорят, что это Неверие, складывающее оружие перед Верой. И епископ, говоривший речь на освящении, говорил о дарах, которые Бог расточает людям и на этот раз мне; и граф, у которого мы обедали по поводу освящения, объявил, что я создал произведение, которое может стать на ряду с античными (он был в Италии); а студент, служащий у графа, воспользовался случаем, чтобы отпечатать и раздать стихи, в которых он развивал мысли о возвышенном и прекрасном и рассказывал историю мифа о Диаволе.
До сих пор, я, как настоящий эгоист, говорил о себе. Что теперь сказать об алтарной живописи Лунделя? Вот что она изображает: Христос (Ренгьельм) на кресте в глубине, слева нераскаянный разбойник (я; негодяй сделал меня еще уродливей, чем я на самом деле); справа раскаявшийся разбойник (сам Лундель, косящийся глазами ханжи на Ренгьельма); у подножие креста Мария Магдалина (Мария, знаешь ее, в глубоко вырезанном платье); римский центурион (Фаландер), верхом на лошади (мерин шеффена Олсона). Я не могу описать тебе, какое это ужасное впечатление произвело на меня, когда после проповеди упали завесы, и все эти знакомые лица уставились со стены на прихожан, с благоговением слушающих его громкие слова о высоком значении искусства, в особенности, когда оно служит религии. В этот час с глаз моих упала завеса, открывшая многое, очень многое. О том, что я в ту пору подумал о Вере и Неверии, ты когда-нибудь услышишь, но то, что я думаю об искусстве и его высоких задачах, я изложу в лекции, которую устрою в общественном месте, когда приеду в город.
Что религиозное чувство Лунделя весьма возросло в эти «дорогие» дни, ты легко можешь себе представить. Он относительно счастлив в своем колоссальном самообмане и не знает того, что он мошенник.
Мне кажется, что я сказал всё; остальное расскажу когда встретимся. До тех пор прощай, всего хорошего!
Твой истинный друг.
Олэ Монтанус».
«NB. Я забыл тебе рассказать развязку археологического исследования. Оно закончилось тем, что старичок из богадельни Ян, помнящий с детства, как выглядели фигуры, рассказал, что их было три: Вера, Любовь и Надежда; и, так как Любовь была самой большой (Матф. 12 и 9), то она стояла над алтарем; но в десятых годах молния разбила ее и Надежду. Фигуры же сделал его отец, корабельный столяр в военном порту в Карлскроне.
Т. О.»
Прочитав это письмо, Фальк сел за письменный стол, взглянул, есть ли керосин в лампе, закурил трубку, вынул рукопись из ящика стола и начал писать.
Сентябрьский день бежал над столицей, серый, теплый и спокойный, когда Фальк взбирался на горы на его южном конце. На Екатерининском кладбище он присел отдохнуть; он испытывал приятное чувство, глядя на клены, которые покраснели от мороза последней ночи, и приветствовали осень с её тьмой, серыми облаками и падающей листвой.
Не было совсем ветра, казалось, что природа отдыхает, утомленная недолгим летним трудом. Всё отдыхало; и люди лежали здесь, под газоном, тихо и ласково, как будто никогда не жили; и он желал, чтобы здесь внизу покоились все люди и он сам.
Часы пробили наверху, на башне, и он встал и пошел дальше; сошел вниз по Горденгатан, загнул в Новую улицу, у которой был такой вид, как будто сто лет она была новой, пересек Новый рынок и очутился на Белых горах.
Перед пестрым домом он остановился и стал слушать, что говорят дети, которые, по обыкновению, находились на скале и говорили громко и без удержу, точа маленькие обломки кирпича для игры в «припрыжку».
— Что ты ела за обедом, Иоанна?
— Тебе какое дело?
— Какое дело, говоришь ты? Смотри, я тебя вздую!
— Ты? Послушать только! С твоими глазами-то?
— Послушай!.. Или не помнишь, как я тебя вчера столкнул в озеро!
— Ах, заткни глотку!
Иоанна получает взбучку, и беспорядок прекращается.
— Не крала ли ты салата на кладбище, Иоанна? А?
— Это тебе наврал хромой Олэ?
— И не пришла ли тогда полиция?
— Ты думаешь, я боюсь полиции? Вот еще!
— А если не боишься, так пойдем сегодня вечером за грушами.
— Там злые собаки за забором.
— Что — там! Сын трубочиста здорово прыгает через забор. А собак можно ткнуть разок!
Точка кирпичиков прерывается служанкой, которая бросает сосновые ветки на поросшую травой мостовую.
— Какого чёрта нынче хоронят?
— Ах, у этого управляющего старуха опять родила!
— Вот упрямый сатана-то, этот управляющий, а?
Вместо ответа другой засвистел какую-то незнакомую мелодию, которая свиделась как-то совсем по-особенному.
— Мы вздуем его щенят, когда они вернутся из школы. А старуха его распухла, уж поверь мне. Эта чертовка однажды ночью выгнала нас в глубокий снег, когда мы не заплатили им за квартиру, и нам пришлось ночевать в сарае.
Разговор прекратился, потому что последнее сообщение не произвело никакого впечатления на слушателя.
После этой встречи с уличными ребятами Фальк без особенно приятных чувств вошел в дом. У двери его встретил Струвэ, изобразивший на лице печаль и теперь взявший Фалька за руку, как бы собираясь доверить ему что-то; ему надо было сделать что-нибудь — и он обнял его.
Фальк очутился в большой комнате со столом, буфетом, шестью стульями и гробом. Окна были завешаны белыми простынями; сквозь них пробивался дневной свет и спорил с красным отблеском двух стеариновых свечей; на столе стоял поднос с зелеными бокалами и миска с георгинами, левкоями и астрами.
Струвэ взял Фалька за руку и подвел его к гробу, где лежал безымянный младенец, положенный на опилки, покрытые тюлем и усыпанные цветами фуксии.
— Здесь, — сказал он, — здесь!
Фальк не испытал ничего, кроме того, что обычно испытывают в присутствии покойника, и поэтому не мог найти подходящих слов и ограничился тем, что пожал отцу руку, на что тот сказал: «Благодарю! Благодарю», и прошел в соседнюю комнату.
Фальк остался один; сперва он услышал оживленное перешептывание за дверью, за которой исчез Струвэ; потом настала тишина; но потом из другого конца комнаты сквозь тонкую дощатую перегородку донеслось бормотание; он лишь отчасти разбирал слова, но голоса показались ему знакомыми. Сперва послышался резкий дискант, очень быстро говоривший длинные фразы:
— Бабебибобубибебо — Бабебибобубибебо — Бабебибобубебо.
На это отвечал гневный мужской голос под аккомпанемент рубанка: «Хвитчо-хитчо, хвитч-хвитч, хвитч-хвитч».