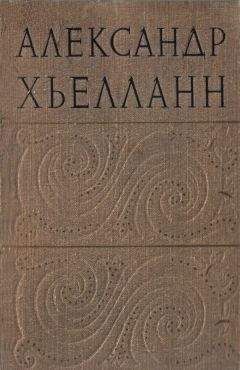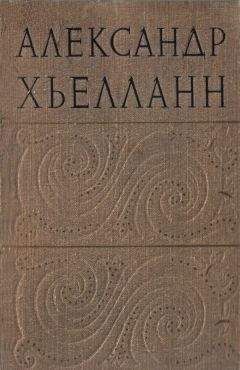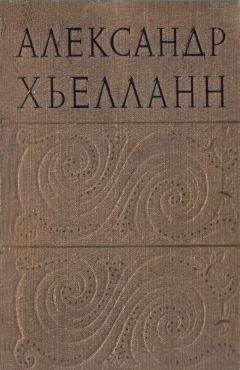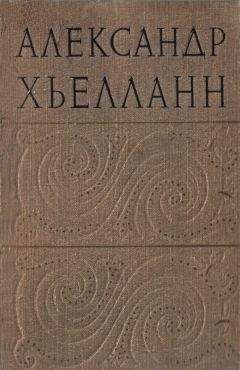Но то, что кости остались лежать полдня, до того момента, как прибыл новый покойник для погребения, было беспорядком, большим беспорядком. Могильщик и церковный служка Абрахам, обычно называемый церковный пьянчужка Абрахам, получил приказание немедленно отнести кости в специальный сарайчик в углу кладбища, где их уже накопилось так много, что, пожалуй, к каждому черепу можно было подобрать целый скелет.
Когда кто-нибудь из вышестоящих бранил церковного пьянчужку Абрахама за его медлительность, он облокачивался на лопату, морщил свой красный нос и отвечал, улыбаясь:
— Видите ли! Помилуй нас боже! У бедняков все не ладится и в жизни и после смерти. Никак они не могут умереть как воспитанные, порядочные люди, поодиночке, по очереди. Нет, норовят умирать скопом. Сюда являются по нескольку человек сразу, и все хотят сразу попасть в могилу. Особенно зимой, когда земля такая крепкая! Да и весною тоже! Помилуй бог! Это же просто глупо! Ну, подумайте! Весною сюда натаскивают несчетное количество малышей! Ох! Помилуй бог, сколько малышей! Да и взрослых немало. И все хотят в могилы в самое неподходящее время, обязательно в самое неподходящее время! И хоть бы кто-нибудь из них удовлетворился могилой меньшего размера! Куда там! Поверьте мне, никто не следит так строго за размером могилы, как бедняки: шесть футов длиной и шесть глубиной — этого они требуют, и ни на дюйм короче! Потому-то оно так и получается, видите ли! Потому-то и не успеваешь убирать эти кости до появления новых покойников из бедноты. Нет, нет! Оно именно так, как я говорю: у бедных, помилуй нас боже, у бедных все не ладится: и в жизни и после смерти.
Однажды новый пономарь хотел уволить Абрахама за то, что тот ходит по кладбищу в пьяном виде и этим возбуждает негодование прихожан. Но пробст сказал:
— А чем займется этот бедный человек? Он будет в тягость нам или мне. Потому-то я его и держу, и буду держать, пока я здесь, и переношу его дурное поведение. Поистине у меня рука не поднимется прогнать его! — И прихожане согласились с необходимостью оставить церковного пьянчужку Абрахама, как залог доброго сердца пробста Спарре.
Клоп стоял около костей, погруженный в свои философические мышления, и ему мерещилось что-то вроде вызова в той гримасе, с которой один из черепов глядел на него. Он, Клоп, думал, что этому черепу, может быть, представлялся крайне странным тот покой, который выпал на его долю в священной земле кладбища. Но ведь и сарай, где хранились кости, тоже был укромным местом; а когда ни церковь, ни пробст, ни пастор, ни капеллан, ни пономарь, ни старший могильщик, ни младший могильщик, ни органист, ни церковный служка, ну, словом, когда никто из них не получает причитающегося ему вознаграждения, то тут уж ничего не поделаешь. Чем более внимательно он, Клоп, рассматривал эти кости, тем более явственно ему казалось, что у этих выброшенных из могилы костей и у этих отполированных черепов было выражение растерянности, несмелости, то выражение, которое он так часто видел в жизни, — выражение, свойственное людям, когда они не могут заплатить.
Тем временем благозвучный голос пастора Мартенса еще раздавался на кладбище. Речь уже приближалась к концу. Снова повторялись «шесть футов», как некая краткая тема, на которую композитор пишет целую симфонию. И каждый раз упоминание об этих шести футах производило все большее впечатление. Конечно, когда в вечерней газете сообщалось, будто «ничьи глаза не остались сухими», это было преувеличение. Но действительно плакали многие, и не только старушки, а и мужчины; даже некоторые коммерсанты вытирали глаза.
Потому что речь была действительно замечательная. Сначала она звучала немножко угрожающе: о богатом человеке, об очень богатом человеке. Можно было опасаться неподобающего упоминания притчи о верблюде и ушке игольном, но пастор Мартенс нашел правильный тон. Бедноте полезно было услышать, как невелика, в сущности, сила этих земных благ, как мало в них такого, чему стоит завидовать, если разобраться как следует. А фраза о шести футах просто хватала за сердце.
Когда надгробная речь закончилась, выступил церковный пьянчужка Абрахам, держа в руках плоский ящик с землей, которую следовало бросить на гроб.
Стараясь побороть внутреннее волнение, пастор взял лопатку, наполнил ее землей и обнажил голову. Окружающие поснимали шляпы разных фасонов и обнажили столько же голов разных фасонов: тут были и гладкие и кудрявые, на иных были длинные волосы, иные были прилизаны, как кожа на чемодане, там и сям мелькал череп белый и блестящий, как бильярдный шар.
Пастор совершил обряд предания земле глубоко взволнованный, словно выполнение этого обряда было для него слишком тяжело. Слышно было, как земля, брошенная на гроб, шуршала в цветах и шелковых лентах. Еще одна краткая горячая молитва, и священнодействие закончилось, и все шляпы снова оказались на головах.
Музыканты, которые стояли кучкой среди участников похорон и держали инструменты под сюртуками, чтобы они не промерзли, теперь вдруг грянули изо всех сил по знаку распорядителя.
Это произвело сильное впечатление. Как при падении в воду большого камня волны расходятся во все стороны по кругу, так могучая волна звуков раздвинула стоявших во все стороны, и около музыкантов образовалось пустое место.
Этим воспользовался распорядитель церемонии. Он стал во главе шествия, и траурная процессия двинулась назад в том же порядке, в каком пришла. Сразу за музыкантами шел регент с «чертовыми служками»; он был глубоко оскорблен присутствием музыкантов и очень опасался, как бы огорченные члены семьи покойного не упустили из виду, каких усилий ему стоило так хорошо организовать хор.
Но распорядитель был вполне доволен музыкантами, которые играли всю дорогу, и, возвратясь домой к жене, сказал ей:
— Может быть, моя барабанная перепонка немного пострадала, но духовую музыку я все же ставлю очень высоко! Ничто не может заменить ее, когда нужно провести среди черни траурную процессию по городу за почтенным покойником.
Отойдя от могилы, пастор оставил процессию и пошел обратно на кладбище. Поскольку он уже был далеко и его не могли видеть издали народные массы, он пошел напрямик через могилы. Могилы в этой части кладбища все были низкие и поросшие травой. Порою он приподнимал сутану и переступал через могилу, попадавшуюся на пути.
Церковный пьянчужка Абрахам позволил себе добавочное угощение в этот день в честь именитого покойника; он шел, покачиваясь, за капелланом, держа черный ящик; ящик был тот же самый: он употреблялся для всех покойников без различия.
Когда пастор приблизился к могиле Марианны, сюда же подошли и старик Андерс и некоторые обитатели «West End», возвращавшиеся с похорон консула.
Капеллан снял шляпу и вытер лоб, оглядываясь. Он искал глазами Абрахама. Все остальные обнажили головы.
Наконец подошел церковный пьянчужка Абрахам, и три горсти земли поспешно и равномерно упали на убогий гроб.
— Земля еси, в землю и отыдеши! В прах вернешься и из праха снова восстанешь, аминь!
Пастор поспешил обратно, шагая через могилы. Можно было не стесняться: ведь это были только могилы бедняков, а время уже было позднее.
XXIV
Смерть младшего консула не повлекла больших изменений ни в укладе жизни дома, ни в делах фирмы. Все шло четко, размеренно и продолжало идти, как хорошая машина. Но новый хозяин машины выглядел каким-то озабоченным, и многие считали, что тончайшие части сложного механизма фирмы едва ли будут хорошо работать в его руках.
Вообще никто не мог бы сказать, что Мортен взялся за свои новые обязанности без увлечения. Его почти невозможно было найти на месте: он все время разъезжал между городом и Сансгором; коляска стояла и ждала его в самых невероятных местах: внезапно он мог вынырнуть из-под моста, так как сошел где-то с лодки, потом снова садился в коляску, ехал в контору, вызывал кого-нибудь из бухгалтерии и уходил опять.
Но когда бухгалтер бросался за ним, чтобы спросить, каковы будут распоряжения, он успевал только увидеть, как коляска патрона поворачивала за угол.
Коммерсанты города еще и прежде говорили — конечно, только в узкой компании, — что легче вести дела «против» Мортена Гармана, чем «вместе» с ним. Фирма Гарман и Ворше начала терять свое доминирующее положение в деловой жизни города, но ее влияние переходило не в одни руки, а распределялось между многими. Годы эти были неудачными для плавания; большинство кораблей фирмы возвращалось или с убытками, или с очень маленькой прибылью. Лучшим из них был «Феникс», который перевозил гуано. Он оставался любимцем города, и газеты следили за ним с напряженным вниманием.
Один из поэтов города написал даже песню в честь «Феникса»:
Стреми же гордо, сын огня,
Свой остов опаленный!
Именно этот образ — намек на «остов», который побывал в пламени, — был удачной находкой сочинителя и обеспечил его произведению почетное место среди городских песен.