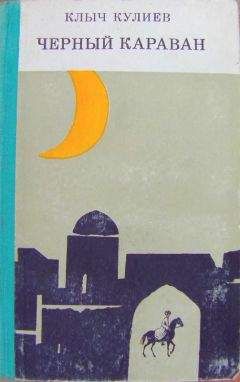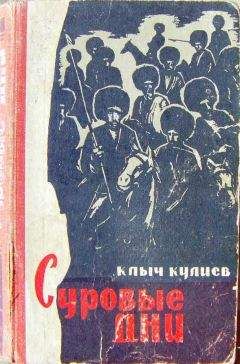Я зорко вгляделся в беспокойно бегающие глаза Кирсанова. Затем спросил:
— Что слышно о Дубровинском?
— Он уже в Ташкенте. Подробно расскажу в Бухаре. Я сегодня ночью уезжаю. Есть более важные вещи.
— А именно?
— Сейчас нам лучше побыстрее разойтись. До свиданья, господин полковник! — Кирсанов почтительно поклонился и отошел.
Я несколько минут стоял в недоумении. Затем быстрыми шагами направился в свою временную резиденцию, поручив Артуру, на случай возможной слежки, прикрывать меня сзади.
* * *
Вот передо мною сидит человек, ради встречи с которым я совершил это рискованное путешествие в Новую Бухару. Его зовут Мухсин-Эфенди. Кличку «Эфенди» (господин) он получил по возвращении из Турции, куда выезжал, чтобы завершить образование. Отец Мухсина-Эфенди был состоятельный бухарский купец. Он был тесно связан с русскими торгово-промышленными кругами и нажил при их помощи солидный капитал. Построил маслобойный завод, собирался выстроить еще хлопкоочистительный. Но внезапно скончался в самом начале войны, оставив своему единственному сыну немалое наследство.
Возвратясь из Турции, Мухсин примкнул к тайному обществу джадидов[71], действовавших под безобидным названием «Табия-и-Атфаль» («Воспитание детей»). Члены этого общества стремились внести в затхлую жизнь средневековой Бухары дух европейской цивилизации, организуя школы по новому методу и другие очаги просвещения. Деятельность джадидов особенно оживилась после революции. Большевики начали всячески обхаживать их, подстрекали джадидов. к более решительным действиям против эмира. Дело дошло до того, что даже в центре благородной Бухары простонародье открыто взбунтовалось, требуя снижения податей и налогов, изменения финансовой политики. Это заставило эмира принять суровые меры против бунтовщиков. Он приказал на месте рубить голову любому джадиду. Бунтовщики вынуждены были переместиться в те города, где власть находилась в руках большевиков. Одним из таких перебежчиков и был мой собеседник — Мухсин-Эфенди.
Мухсин-Эфенди говорил не торопясь, чеканя каждое слово. Он продолжал со спокойной улыбкой:
— Говорят, что бог создал людей. Я этому не верю. Люди сами создают себе богов. Вы видели, как сегодня на площади народ кричал: «Ленин! Ленин!» Это не только здесь, в Новой Бухаре, а везде, где властвуют большевики. Народ верит — глубоко верит! — Ленину, его проповеди. Для того чтобы изменить положение, необходимо противопоставить этой большевистской вере другую, не менее притягательную. Где она, эта вера?
— Не слишком ли вы фетишизируете личность Ленина? — спросил я, глядя прямо в большие, умные глаза моего собеседника.
— Лучше переоценить силы и возможности врага, чем недооценить их, — ответил Мухсин, медленно проведя своими большими ладонями по аккуратно подстриженной черной бороде, выгодно оттенявшей его красивое, холеное лицо. — Кто-то из древних мудрецов сказал, что уверенность в себе следует испытывать лишь тогда, когда известны планы противника. Этого, к сожалению, мы еще не добились. Что касается моих слов о большевистской вере, то в этом, смею сказать, нет никакой фетишизации. Раньше я никогда не думал, что их учение может иметь такую неотразимую власть над человеческой душой. Оно, оказывается, сильнее даже религии. Иначе чем можно объяснить тот факт, что узбек-мусульманин хором кричит с иноверцем-русским: «Ленин! Ленин!» Вот где, на мой взгляд, главная причина драмы, переживаемой теперь человечеством!
— Где же выход из этой драмы? — спросил я, чтобы побудить собеседника продолжить его философские построения.
Мухсин-Эфенди ответил не сразу. Сначала он пристально посмотрел на меня, как бы задавая вопрос: «Серьезно ли вы спрашиваете?» Затем некоторое время сидел молча, медленно прихлебывая теплый чай. Должно быть, мой вопрос показался ему несколько наивным. Я не ошибся. Он заговорил, иронически улыбаясь:
— Хотел бы я знать, сколько людей сейчас ломает голову над этим. И почти никто не думает о причинах, породивших нынешнюю драматическую ситуацию. А это главное! Еще наш великий соотечественник Ибн-Сина[72] говорил, что познание всякой вещи достигается и бывают совершенным через познание причин. Но у нас не любит говорить о причинах. И это не случайно. Например, говорит ли его высочество эмир, почему его трон шатается? Нет! Это было бы равносильно самобичеванию.
Мухсин-Эфенди промочил горло уже почти остывшим чаем и заговорил снова:
— Вы, надеюсь, обратили внимание па большую кожаную плеть, которая висит на видном месте у входа в Арк — резиденцию его высочества? Это — символ власти эмира. Да, да… Плети, насилие, страх. Вот на чем держится его власть. А насилие, как вам известно, порождает не только страх, но и презрение, и ненависть. Вот потому я и говорю, что дни эмира сочтены. Трон его расшатан основательно. Говорят, эмир часто жалуется на бессонницу. — Мухсин улыбнулся и добавил: — Кстати, он не просил у вас врачебной помощи?
— Нет! — ответил я. — Насколько я мог судить, его высочество бодр и уверен.
— Это бодрость страха! Бодрость отчаяния! Он бодрится, чтобы не заплакать…
Мухсин замолчал.
Мы знали, что Мухсин и его единомышленники ненавидят эмира Сеид Алим-хана и его окружение. Справедливости ради следовало сказать, что в этом виноват был сам эмир. Вместо того чтобы воспользоваться этими наивными просветителями для укрепления своего трона, он жестокими мерами толкнул их в объятия большевиков. Слово «наивные» я употребил не случайно. Они в самом деле были наивны. По-детски наивны! Посудите сами: разве возможно открытием нескольких школ или библиотек цивилизовать людей, веками дышавших смрадом мертвечины и отупевших от этой мертвечины? Как говорят на Востоке, с таким же успехом можно копать колодец иглой. К тому же джадиды вовсе не стремились к власти. Они лишь просили, умоляли эмира — тень аллаха на земле — не пренебрегать их словами, понять, что обстановка в Туркестане коренным образом изменилась. Но застарелые обычаи и взгляды одержали верх. Эмир начал травить джадидов, как травят на Востоке диких кабанов. Кабаны, конечно, разбежались. Часть реформаторов решительно перешла на сторону большевиков, а некоторые хотя и сотрудничали с ними, но, так сказать, держа камень за пазухой. К таким, если так можно выразиться, ложным большевикам принадлежал и мой собеседник.
Я решил первым нарушить наступившее молчание. Но Мухсин-Эфенди опередил меня. Он снова устремил па меня свой острый, проницательный взгляд:
— Могу ли я, господин полковник, задать вам один деликатный вопрос?
— Только один? — спросил я полушутливо и тут же добавил: — Я специально приехал сюда, чтобы обменяться с вами мнениями по некоторым вопросам. Я надеялся, что беседа наша будет дружественной, доверительной. А в доверительной беседе может быть затронут любой вопрос. Не так ли?
— Безусловно!
Мухсин-Эфенди некоторое время молчал, раздумывая. По-видимому, он мысленно взвешивал свой «деликатный вопрос», стараясь найти для него наиболее удобную дипломатическую форму. Наконец поднял голову и с прежним спокойствием заговорил:
— По сведениям большевиков, вы дважды встречались с эмиром. Скажите: какое впечатление он произвел на вас?
Честно говоря, я не ожидал такого вопроса. Полагал, что мой собеседник заговорит о деньгах, о военной помощи. Тем не менее я ответил без задержки, самым искренним тоном:
— Да, я встречался с эмиром. Но не два раза, а лишь один раз. Большевики ошиблись. (Я сознательно исказил факты, хотя, признаюсь, меня неприятно удивила точность сведений, доставленных большевистскими агентами.) На мой взгляд, эмир трезво смотрит на происходящие события. Он понимает всю сложность обстановки. И самое главное — отлично понимает, что судьба его тропа зависит от того, удастся ли полностью ликвидировать большевистские очаги в Туркестане. А это очень важно!
— Почему же тогда он не переходит к решительным действиям против большевиков? Ведь война идет у границы Бухары, недалеко от Чарджуя.
— Он выжидает более благоприятной ситуации. Хочет нанести удар с тыла в решительный час.
— И вы этому верите?
— А почему бы не верить?
Мухсин-Эфенди вопросительно посмотрел на меня, как бы желая прочесть в моих глазах мои истинные помыслы.
Я продолжал с той же уверенностью:
— Мне кажется, не надо быть особо прозорливым, чтобы понять истину: большевизм висит над всей Бухарой, как дамоклов меч. А этот меч, как говорят, не разбирается в своих жертвах.
Мухсин-Эфенди молчал. Чувствовалось, что он не верит моим словам. Вернее, моим домыслам. По тому, как сразу же сбежались складки на его широком лбу, можно было догадаться, что он ожидал от меня иного. Неизбежно должна была последовать ответная реакция. Поэтому я тоже решил промолчать.