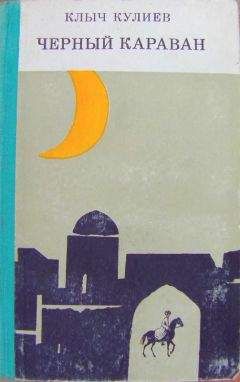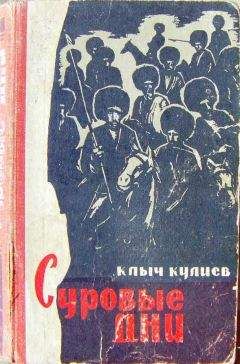Командир насмешливо улыбнулся:
— У тебя пулемет… И ты прячешься от каких-то трех басмачей?
— А что делать? Он, проклятый, не работает. В Кызылкумах потерял огниво.
Командир посмотрел на черноусого кавалериста, как бы спрашивая: «Это правда?» Тот подтвердил слона Кирсанова: пулемет в самом деле неисправен.
Командир повернулся в мою сторону:
— Значит, вы этого человека видите впервые?
— Да, — спокойно ответил я. — Никогда его не видел.
Ахмед неприязненно посмотрел на меня и сердито буркнул:
— Ложь!
Я пожал плечами, как бы пе находя ответа.
— Кроме всевышнего, у меня пет свидетеля!
Командир снова перевел взгляд на Кирсанова:
— Кто прикрыл вас ветками гребенщика?
— Сам.
— Вы видели нас?
— Нет… Не видел, как и эти трое подъехали. Думал пролежать до темноты… А потом идти дальше.
Не сводивший с меня глаз Ахмед с угрозой спросил:
— Ты поклянешься на Коране, что не знаешь его?
— Нет! — так же спокойно ответил я. — Отсеките мне голову, но я не стану клясться. Не пристало человеку религии давать клятву. Но то, что я его не знаю, — правда. Поверьте: я никогда в жизни не лгал.
Я был поражен мужеством Кирсанова. Он был весь в грязи, даже брови и ресницы его были залеплены глиной, зрачки глаз еле виднелись. Но он держался твердо, говорил уверенно, как человек, верящий в свою судьбу.
Командир встал и, подойдя вплотную к Кирсанову, смерил его с ног до головы яростным взглядом. Затем грозно проговорил:
— Значит, вы не хотите очиститься от грязи… Предпочитаете валяться в болоте, а не сознаваться. Так?
Кирсанов ответил без страха:
— Что это значит? Кто любит грязь?
— Как видно, есть такие… Иначе вы не стояли бы так!
Командир обернулся ко мне и, не меняя тона, сказал:
— Ахун! Вам также придется поехать с нами.
— Куда?
— В Турткуль.
— А что мне там делать?
— Приедете и узнаете!
Спустя два дня мы прибыли в Турткуль— форпост туркестанских большевиков на пороге Хивы. На старой русской карте этот городок был известен как Петро-Александровск. От Хивы его отделяла только Амударья. Стоило пересечь ее, и вы попадали в другой мир.
Большевики придавали Турткулю большое значение. Они сосредоточили здесь крупные силы, готовясь к затяжной борьбе. К тому же Турткуль являлся убежищем для хивинских бунтовщиков. Пройдя здесь большевистскую школу, они разъезжались по районам Хивы, стремясь опрокинуть и без того шатающийся трон хивинского хана. Люди Джунаид-хана не один раз пытались овладеть Турткулем. Они хорошо понимали, что по соседству с пороховой бочкой долго не проживешь, но у них не было сил, чтобы самим взорвать ее.
Нас заключили в гарнизонную тюрьму. В тесном, огороженном колючей проволокой доме было всего несколько комнат. «По-видимому, тюрьма построена специально для политических заключенных», — предположил я.
Так и оказалось. Вот уже месяц, как я перешагнул порог тюремной камеры. За это время не видел никого, кроме следователя, который вел допрос, да караульных солдат. Правда, недели две тому назад ко мне в камеру посадили одного старика. Он рассказал, что сам из Нукуса, что большевики арестовали его, обвинив в связях с Джунаид-ханом, и что теперь его везут в Чарджуй. Я сразу почувствовал, что это не простой человек, поэтому пошел на «откровенный» разговор и быстро «раскрыл душу». Старик прощупывал меня со всех сторон. Мы провели неделю в бескровных схватках. Бог знает, кто вышел победителем, а кто был побежден в этом поединке. Думаю, старик покинул камеру, уверенный, что именно он одержал победу. Только этого мне и нужно было!
До сих пор мне не приходилось сидеть в тюрьме. Наверно, поэтому месяц показался мне целой жизнью. Не осталось ни одного события, которое я не. вспомнил бы. Не один раз перебрал все свое прошлое, начиная с дней беззаботного детства, вплоть до самых извилистых перепутий жизни. Вспоминал последние дни, пытался окинуть мысленным взглядом будущее, снова обратился к прошлому… Что может быть стремительнее воображения! За какие-то секунды можно облететь всю свою жизнь. А ты вынужден прозябать здесь, в полном одиночестве, влача серые, однообразные дни.
Я чувствовал, что голова у меня начинает распухать от одних и тех же назойливых, неотвязных мыслей. Чем кончатся эти полные лишений скитания? Куда занесет меня необычная судьба? Допустим, я вырвусь из этого ада… Вернусь в Асхабад… Вряд ли мне скажут: «Молодец, отлично выполнил задание». Начнутся ворчливые попреки, нотации, поучения… Я отлично понимал, что на радостную встречу не приходится рассчитывать. И все же мечтал об одном: как бы вырваться из этого плена. Самое худшее, что мне грозит дома, — несколько задержится производство в генералы. Пускай… И без того я твердо решил: как только окончится война, отказаться от своей неблагодарной профессии и провести остаток дней своих в покое, в кругу семьи. Но в глубине души все Же теплилась надежда на генеральские погоны, на повышение в должности. Я понимал: закончись мое путешествие удачно, и завтра же мои фонды резко повысятся… Но сейчас ветер удачи отвернулся от меня. Быть может, он еще вернется? Быть может, мне еще откроется путь к славе? Я еще смогу воспарить? Только об этом я и молил создателя.
В первые дни меня хоть вызывали на допросы. На второй день по приезде меня допрашивал Ахмед. Он был по-прежнему настроен против меня. Как оказалось, па случайно. В шестнадцатом году, поддавшись на уговоры муллы в своем родном селении, он был отправлен на тыловые работы и около двух лет трудился на дорогах в Центральной России. Поэтому и теперь он весь вспыхивал, едва увидев чалму. Ни разу не взглянул на меня доброжелательно. Я пошутил:
— Напротив, вы должны сказать спасибо мулле. Не попади вы на тыловые работы, не стали бы большевиком.
— Я ему скажу «спасибо»! Рано или поздно попадется мне в руки. Эх, вы… Что вы знаете, кроме гнусных хитростей и уловок?
Слава богу, с этим крикуном больше я не встретился. В дальнейшем следствие вел татарин по фамилии Габдуллин. Он оказался терпеливым, рассудительным человеком. До войны был преподавателем гимназии в Ташкенте. Затем был призван в армию. С фронта вернулся без левой руки.
Недели две он все искал подхода ко мне. То заигрывал, то угрожал. Фотографировал меня в разных позах. Но ничего не добился. Я боялся одного: фотографии, по всей вероятности, отослали в Ташкент. Если вдруг они попадут там в руки кому-нибудь вроде князя Дубровинского, меня сразу разоблачат. По всему было видно — здесь ждут указания сверху. Но последние дни меня никто не тревожил. Поэтому я даже обрадовался, когда караульный, открыв дверь, грозно объявил:
— Выходи! На допрос!
Я вскочил на ноги, накинул на плечи шубу и вышел из камеры. Время близилось к вечеру. В воздухе чувствовался холодок — зима неумолимо вступала в свои права. Вот игра судьбы: Мешхед я покинул в жаркий летний день. Надеялся закончить свой путь самое большее за полтора месяца. А вот уже кончается четвертый месяц, прошла осень, наступает зима, а до финиша еще очень и очень далеко. И главное— еще совсем не ясно, предстоит ли мне двинуться дальше или я уже закончил свой путь? Вдруг меня, не дай бог, загонят в Ташкент! Что тогда делать?
После полутемной, душной камеры приятно было выйти на воздух. Хотелось вздохнуть всей грудью, казалось, с каждым вздохом становится легче. Издали доносились голоса солдат, звуки оркестра. Веранда здания, куда меня привели на допрос, была украшена лозунгами и плакатами. На длинном, метров в пять, полотнище из красной материи было написано крупными буквами: «Да здравствует мировая революция. Да здравствует товарищ Ленин!» Эту надпись я читал каждый раз, приходя на допрос. И теперь она привлекла мое внимание. Над большой дверью был прибит портрет Ленина, по сторонам портрета тихо колыхались на северном ветру выцветшие красные ленты.
Габдуллин встретил меня как обычно: поднявшись навстречу и слегка улыбаясь, справился о моем здоровье. В ответ я положил правую руку на стол:
— Видите, как дрожат пальцы? Во всем виноваты вы! Хорошо, если человеку приходится терпеть за какую-то вину. Это еще куда ни шло… Но если тебя заставляют страдать, когда ты твердо знаешь, что ни в чем не виноват… Держат в тюрьме… Проявляют грубое насилие… Топчут тебя солдатским сапогом… Это не всякий человек выдержит! Поймите: я не безмозглое животное. Я человек! Слышите? Я человек!
Бывают на свете такие толстокожие существа, на которых не действуют ни жара, ни холод… Таких не проймешь ни криком, ни мольбами… Кричи на него или умоляй, он все равно так же спокоен, так же не меняется в лице. Габдуллин был именно из таких. У меня накипело на сердце, — казалось, станет легче, если я сейчас выскажу все, что думаю. Поэтому я с самого начала повысил тон. Но Габдуллин даже бровью не повел. Ответил хладнокровно: