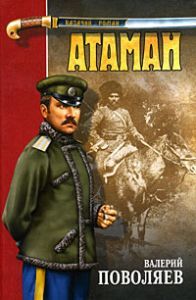— Не надо! — Атаман окоротил их движением руки.
— Кто такие? — поинтересовался голос из камней.
— Тимофей Гаврилович, это я... Я! — Атаман сдернул с головы лохматую папаху, чтобы стрелявший видел его. — Смотри, не подстрели ненароком, — Семенов сдержанно засмеялся, смех его был похож на кашель.
Из камней, метрах в семидесяти от всадников, поднялся старик с густой седой шевелюрой, приложил руку ко лбу.
— Ты, что ль, Григорий Михайлов? — неуверенно проговорил он.
— Я! Я это. Не признал?
— А чего не в генеральской форме? Разъезжаешь, как простой казак-разбойник.
— Да жизнь такая нынче пошла, Тимофеи Гаврилович... Нехорошая жизнь. Всякий, кому не лень, норовит нож в спину всадить. Поэтому и приходится в маскарады играть.
Старик махнул винтовкой, крикнул в другой угол долины:
— Кланька, можешь не прятаться — свои! Вылезай!
Из-за растрескавшегося каменного зуба, венчавшего завал, на кривом срезе которого росли две черненькие веселые березки, поднялась тоненькая большеглазая девушка в темном платке, надвинутом на самые брови. В руке она так же, как и дед, держала винтовку.
— Это моя младшая, — представил девушку старик,
— Дочка?
— Внучка. Но поскольку родителей у нее нет, она мне как дочка... — Старик приложил к бороде темный, словно вырезанный из камня кулак, кашлянул: — Давайте скачите к дому, — он обернулся, ткнул винтовкой в синевато-розовую пятистенку, — а я сейчас подоспею. Кланя! — скомандовал он позвончевшим голосом. — За мной!
— Григорий Михайлович, поясните ради бога, кто это? — попросил атамана Таскин, когда они, подскакав к дому» осадили коней. — Не пойму что-то...
— И понимать не надо, — обрезал атаман. — Таких, как Тимофей Гаврилович Корнилов, зовут насельниками. Они селятся на земле там, где нет людей, и обживают ее.
— Давно с ним знакомы?
Атаман кивнул:
— Давно!
Старик держался с атаманом на равных — никакой робости, пригласил казаков в избу, но Семенов отрицательно качнул головой:
— Разговор секретный будет.
— А как же насчет перекусить, а? Может, вначале перекусим, а потом разговор?
— Нет, время не ждет.
— Тогда вот что, мужики, — обратился старик к казакам, ткнул рукой в высокую поленницу дров, — вот вам топливо, чтобы огонек пожарче был, вот летняя печка, — ткнул в широкое, похожее на огромную квадратную бадью сооружение, сложенное из самодельных, неровно нарезанных желтых кирпичей, — вон кострище, — опечатал кулаком черный выжженный пятак, над которым вздымались две железные рогульки, — где хотите, там и можете огонь развести... А Кланька вам в помощь. Она знает, где мясо взять, где рыбу, а где лежит щепа для растопки. За дело, мужики!
В избе старик проворно побросал на стол несколько тарелок с едой — из той, что осталась с утра, — в центр, будто знамя, поставил бутылку смирновской водки с потемневшей этикеткой — видно сразу, из давних запасов. Семенов неожиданно почувствовал, как у него что-то защипало в горле, смущенно покрякал, прикрыв рот ладонью, потом покрутил головой, как будто сильными движениями этими хотел свернуть крючки, пришитые к воротнику.
Что-то с годами он слабеть начал — слюнявым стал делаться, мягким, словно могильная земля, так, глядишь, и плакать скоро научится — вот напасть-то! И это он, про которого в казачьих сотнях ходят легенды и казаки передают один другому его слова: «Если я днем не убью ни одного красного — ночью плохо сплю».
Атаман взял бутылку, перевел взгляд на Таскина — помощник атамана по работе с гражданским населением был, само собою разумеется, допущен до секретного разговора.
— Раньше Россия пила настоящую водку, сейчас хлебает напитки из сосновой щепы, обломков табуретов и конских яблок. Тьфу! Опустилась Россия! — Семенов, ставя бутылку на стол, тяжело вздохнул, сел на лавку.
Старик тем временем запалил самовар — действовал он проворно, выволок из подвала здоровенный шмат соленой кабанятины, шмякнул его на стол.
— Вот. Порося из здешних. Сам завалил, сам засолил, сам чесноком нашпиговал. Блюдо вкусное. Испробовано не раз. — Старик перевел взгляд на Таскина: — А ты чего же, мил человек, бутылку не откупориваешь? Не умеешь, что ли?
Таскин вопросительно глянул на атамана.
— Открывай! — велел тот.
После первой стопки атаман спросил у старика:
— Золото попадается?
Тот не стал скрывать, хотя и плохая это примета у золотодобытчиков говорить правду:
— А куда ж оно денется? Естественно, попадается.
Если я дам тебе, Тимофей Гаврилович, бригаду в помощь, сумеешь золотишка намыть?
Старик ответил не задумываясь:
— Сумею, но... — он отхватил ножом кусок соленой кабанятины, отправил в рот, потом разрезал луковичную головку, содрал с половинок шелуху, посолил и также отправил в рот, захрустел смачно, — но... Одной бригады, думаю, будет мало.
— Неужто тут так много золота? — удивился атаман.
— Много.
— Тогда людей дам столько, сколько потребуешь. И расцелую тебя, Тимофей Гаврилович, за верную службу России. — Атаман расчувствовался, голос его сделался проникновенным.
Таскин смотрел на атамана и удивлялся: неужто это он, Семенов?
— Особо много не надо, Григорий Михайлов, но бригад пять самый раз будет. По пять человек в каждой, — попросил старик. — Я их расставлю по ручьям да по горным выработкам, по жилам.
— Зимой мыть сумеешь?
— Почему бы и нет? Лишь бы морозы не прижали да твои люди холодной воды не боялись. А так возьмем не меньше, чем летом.
— Ах, дорогой ты мой Тимофей Гаврилович, — прежним проникновенным голосом произнес Семенов, — всю мою армию этим здорово выручишь. История тебя не забудет.
Старик насмешливо кашлянул в кулак:
— А мне, Григорий Михайлов, если честно, до истории никакого дела нету.
— Тогда не забудет Россия, — поспешил поправиться Семенов.
— Кроме намывного золота здесь много жильного, — сказал старик.
— Покажи! — загорелся Семенов, приподнялся на скамейке — было в этом движении что-то ребячье.
— Ить ты! — усмехнулся старик. — Шустрый какой! Не суетись!
Таскнна вновь удивила лихая, накоротке вольность, с которой старик позволял себе обращаться с генералом — и не просто с генералом, а с атаманом, перед которым трепетал весь Дальний Восток. Может быть, причина скрыта в прошлом и они встречались в давнюю пору, когда атаман был кадетом, или еще раньше, в родном селе Семенова на реке Онон?
Через двадцать минут они втроем на лошадях поскакали в низовье гостеприимной долины. Пестрая земля — то в рыжине обвядшей травы, украшенной палыми листьями и яркой лиственничной хвоей, то в темных голых пятнах, из которых прорастали каменья, то в молодой сочной зелени обманутой теплом и проросшей на поверхность травы, — проворно уносилась под екающие крупы лошадей, в ушах разбойно посвистывал ветер, да пулеметным стуком всаживался в барабанные перепонки дробный топот копыт.
Скакали минут десять, потом свернули в мрачноватое, поросшее высокими черными елями ущелье, затем свернули во второе, такое же узкое и темное, промахнув под сросшимися камнями, образовавшими круглую ровную арку, оказались на сыром каменном пятаке.
Старик остановился первым, спешился. Следом спрыгнул Таскин, привычно огляделся.
— Что, все продолжаешь исповедовать заповеди пулеметчика? — засмеявшись, спросил атаман.
Таскин давно уже исповедовал эти заповеди. Первая, и главная, заповедь в профессии пулеметчика — если запахло жареным, вовремя смыться. И чтобы пути отхода были открыты.
Каменный пятак имел два выхода: один прямой, похожий на специально прорубленную сквозь камни штольню, голый, без единого растеньица, здесь можно было передвигаться верхом, второй — небольшой, густо поросший облетевшим орешником, тесный, пролезть в эту щель мог только человек.
— Неприметное место, правда? — спросил у атамана старик.
— Место как место, есть тысяча других таких же, — шумно прокачав сквозь ноздри воздух, отозвался атаман.
— Вот это и хорошо. — Старик довольно засмеялся. — Никогда такое место не запомнишь. А между прочим, оно самое золотоносное из всех, что я знаю.
— Ну-ка, ну-ка, — оживился Семенов, выпрыгнул из седла.
Старик подвел Семенова к скале, показал на кровянисто-рыжую тонкую неровную струйку, текущую по каменной плоти:
— Вот, Григорий Михайлов... Пожалуйста!
— Это золото? — не поверил тот. — Не может быть!
— Самое что ни есть, — старик снова рассмеялся: неверие атамана, его естественное изумление было ему приятно, — самое первостатейное золото.
Он достал нож, провел острием по кровянистой нитке. Место «пореза» засияло лучисто, дорого, брызнуло слепящим светом в глаза. Лицо у атамана порозовело, распустилось молодо, он восхищенно поцокал языком.
— И много его тут можно наковырять? — не удержался он от вопроса.
Над головой раздался скрипучий могильный вскрик. Старик задрал голову, проследил глазами за плавным тяжелым полетом древнего, черного как уголь ворона.