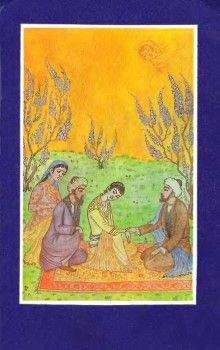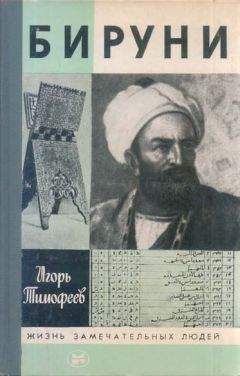— Многие беды навлекала на себя эта голова, Абу Али. А вот пока живет, даже мыслить пытается. Говорят ведь: что судьба записала на лбу человека, того не миновать… Опасностей я не страшусь. Мира бренного, подлунного страшусь, нечестивых дел в нем слишком много, чаша полна до краев.
— Что же делать, учитель? Не нам, видно, дано изменить мир.
Бируни опять охватил приступ яростного гнева, — с годами, он чувствовал, такие «взрывы» случались все чаще.
Ученый вновь зашагал по зале, безостановочно, шумно, опрокидывая кресла и тут же на ходу подымая их.
— Нет, не могу смириться, не могу, Абу Али! Мир бренный, старый-престарый, без начала, как ты говоришь, пронизан нусом — разумной целесообразностью, весь мир, кроме… кроме людской жизни. Где ты в нем видишь нус, Абу Али?.. Прости меня, о создатель! Ты создал человека из глины, дыханьем своим внедрил в него жизнь, но зачем вместе с жизнью внедрил ты и глупость, и злобу, и себялюбие, толкающее на любую подлость? Зачем наделил низкими вожделениями? Почему, одарив человека проницательным разумом, — его, его одного из земных существ! — не сделал ты так, чтоб использовал он этот разум лишь в высоких целях?
Бируни, будто ожидая ответа с неба, остановился на миг точно под отверстием в потолке. И вновь зашагал. И вновь загремел его голос, угрожающе-хриплый и одновременно безнадежно-усталый:
— Прости раба своего грешного, о создатель сущего! Я не верю твоим богословам, пленникам невежества. Не верю, когда улемы твердят, что без твоей воли не погибнет и не родится даже муха. Я тоже, как и мой собрат Абу Али, полагаю, что мир зиждется на разумной целесообразности. Но как же мне не гореть от стыда, не страдать, видя людскую низость и глупость! Не могу я примирить разум, которым ты одарил людей, с их низостью и подлостью! И разум ведь терпит поражение снова и снова, ведь до сих пор нет справедливости ни в одном султанате, нам известном!
Ибн Сина медленно приблизился к разгневанному Бируни, остановил его, осторожно обнял за плечи:
— Человек все равно победит и льва, и кабана, учитель[92].
Бируни с сомнением покачал головой.
— Этот старый-престарый мир вы знаете лучше меня, — продолжал Ибн Сина. — Пройдут сотни лет, может быть, тысячелетия, но в конце концов победителем в борьбе выйдет ум, человечность…
— Через тысячу лет! — воскликнул Бируни. — А я… я думаю о сегодняшнем дне.
2
Бируни добрался до своего дома в городе, когда рассвет был уже близок. Рассеянный свет молодого месяца лился на город, мерцал вдали над горами, и звезды сверкали особенно ярко, будто радовались слабости неполной луны. Прохлада настоянного на запахах трав воздуха успокаивала.
Город только начал пробуждаться, отгонял от себя тревожные сны.
Калитка почему-то была не заперта. Под ветвями деревьев во дворе притаилась тишина, только в углу двора приятно журчала вода в арыке да откуда-то издалека доносились сюда мерное гудение воды, льющейся из мельничных желобов, и взлаиванье собак.
Бируни, все еще объятый печалью, медленно прошел к арыку, присел на корточки, умыл лицо. Потом потрогал и, склонившись, понюхал цветок, вытянувший из травы головку.
Направился к дому.
Входная дверь в доме тоже подалась сразу же, стучать не пришлось.
В комнатке Сабху был заметен свет. Бируни на цыпочках подошел вдоль стены к окошку, заглянул в него. Сабху сидел на коленях в углу, к окну спиной: в руках он держал какую-то красную ткань: видно, он молился, что-то шепча и склоняясь лбом к полу, целовал красную ткань. Лицо терялось в тусклом свете фонаря, из ниши освещавшего комнату… Да, индиец молил своих бесчисленных богов. О чем? Бируни вгляделся: Сабху целовал цветасто-красный платок Садаф-биби! Юноша молил о том, чтобы ниспослали боги удачу любимой девушке, — молил грозного Шиву, который может, коли умилостивить его, дать человеку счастье, молил бога жизни и смерти, созидателя сущего, четырехликого и четырехрукого Брахму, молил великого бога-охранителя Вишну, который благожелателен к людям.
Бируни прислонился спиной к стене дома. Стыд горячей волной окатил его. Вспомнилась последняя ночь перед тем, как ему суждено было попасть в зиндан. Вспомнилось, как девушка робко вошла к нему, опустилась на колени, а когда он заговорил про Сабху, про свое намерение соединить их судьбы, то слезы брызнули из глаз Садаф-биби. «Не прогоняйте меня, не прогоняйте меня от себя!» — восклицала она, целуя руки его, старые, натрудившиеся за полвека руки. И пробудили в нем слезы девушки какую-то сладкую тревогу, надежду на что-то такое, в чем было стыдно теперь признаться: он, старик, потянулся к совсем юному цветку, не нашел в себе сил противостоять порыву Садаф…
Кто знает, если бы он в ту же ночь, а лучше бы еще раньше, соединил своей волей судьбы этих двух молодых людей, может быть, сейчас все было бы иначе и в жизни дорогой ему девушки.
Бируни так и не зашел к себе в дом, бесшумно вышел со двора на улицу, отправился в питейную Маликула шараба.
Рассвело.
Впереди показался гузар, где росли могучие чинары — знак поворота, перекресток нескольких улиц. Торговцы сластями и пекари открыли свои лавки первыми, вырвались на волю острые и сладкие запахи — горячей самсы, кебаба, свежей халвы. Водоносы поливали водой из огромных бурдюков пыльные площадки, дворники длинными метлами сметали мусор. Вон во дворе караван-сарая закопошился торговый люд, — базар, скоро начнется базар!
Бируни пошел вдоль торгового ряда ювелиров. Здесь тоже полито и так чисто подметено, что капни, как говорится, маслом на землю, ту же каплю в чистоте сможешь слизать языком. Но странно, что богатые лавки, которые обычно открывались тоже очень рано, еще глухо прикрыты ставнями. А вон те две, что открылись было и тут же захлопнулись? И куда бегут эти люди?
Бируни помнит: лавка Пири Букри стоит вблизи от базарной площади. Ну да, вот она показалась. Но что за суматоха перед ее захлопнутыми дверями и ставнями? И народу там прибывает и прибывает.
Бируни тоже ускорил шаг. Отовсюду доносилось:
— Бедный Пири Букри скончался! Да благословит его аллах! Хороший был человек!
— Язву тебе на язык! Был бы хороший, сделал бы он такое?
— А что он сделал?
— Да простит ему аллах — повесился он.
— Не знаешь, так и не разевай рот, дурень. Не Пири Букри — служанка его повесилась!
— Ах, несчастная!
Бируни — чувство тревоги все усиливалось в нем — втиснулся в толпу, гудящую, словно осиное гнездо. Еле прошел вперед. Иные, узнав ученого, старались помочь его продвижению. Иные не обращали на него никакого внимания, переговаривались между собой, толкались, загораживали проход.
С грохотом распахнулась дверь лавки, и кто-то не вышел, нет, выскочил, выбежал — низкий, коренастый, большеголовый. Увидел множество людей перед собой, застыл как вкопанный — босой, простоволосый.
Пири Букри!.. Его борода взлохмачена, лицо отекшее, горб колом выступил над полуголыми плечами, в глазах, по-детски безвинных глазах, тоска и отчаяние, на руках, до локтей голых, — кровь, пятна крови!
Толпа тотчас притихла.
Пири Букри ошалело обвел людское множество странно и страшно бегающими голубыми своими глазками, а затем воздел руки вверх, раскрыл ладони, как на молитве, закричал:
— Нет! Эту девушку… служанку свою я не убивал! Не убивал! Она повесилась сама!
Горбун принялся рыдать, рвать на себе бороду. Вдруг увидел Бируни. Застыл. Кинулся к нему. Пал наземь. Обнял его ноги чуть ниже колен:
— Прости меня, несчастного, нечестивого! Прости, мавляна!
И Бируни тоже застыл истуканом, будто потеряв разум. Он хотел пнуть горбуна, ползающего у ног. Он хотел еще зайти внутрь лавки, посмотреть на бедную Садаф, но тут же, вздрогнув, представил себе, как болтается в петле ее тело, юное и прекрасное, и чуть не упал наземь от ужаса.
Медленно пошел прочь.
Остановился.
Будто кто-то вонзил ему в грудь заржавленный нож и проворачивал, проворачивал в ране…
Безгрешная, как горлинка, погибла. Последней надежде — конец! Последняя свеча в его многотрудной жизни! Теперь он — келья без единого луча света.
Бируни и сам не заметил, как вернулся к гузару. Попросил, чашку воды у какого-то водоноса. Выпил воду и долго сидел потом под карагачем, не в силах подняться и продолжать путь.
3
…И перед питейной Маликула шараба было, несмотря на ранний час, уже многолюдно. Чего-то ждали. Внутрь не заходили.
«Странно! Что тут происходит? Почему у всех головы опущены? Почему все молчат?»
Нищие и дервиши, облепившие порог питейной, увидев Бируни, расступились.
Бируни, превозмогая все еще не отпустившую острую боль в груди (вот о чем надо бы спросить у Абу Али!), нерешительно приотворил дверь. В полутемной комнате вроде бы никого не было, только под тусклой лампадкой на полочке — прямо против входа — сидел какой-то бородач в пестром раздерганном халате. Шапка сползла на лоб. Непонятно было — бодрствует он или спит.