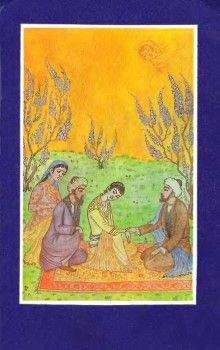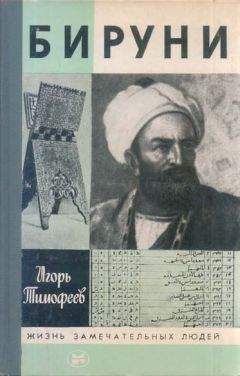Уж откуда явился вскорости крупный вороной, Бируни догадаться не мог, но явился, его привел под уздцы давешний дервиш.
— Тысячу раз сожалею! — сказал Маликул шараб. — Сегодня надеялся выпить с тобой по чаше вина, мавляна. Да вот… И еще жаль: столько лет я мечтал увидеть Ибн Сину, и нынче не удалось. Мой почтительный поклон ему! Пусть улыбнется счастье почтеннейшему из почтенных мудрецов этого мира.
4
…Им обоим казалось, что все, что скопилось в душе, все уже высказано и обговорено. Но чем скорей приближался час их расставания, тем больше нарастало желание продолжить беседу еще и еще, будто самое сокровенное недовысказано.
Приближалась, однако, и опасность, о которой предупредил их имам Исмаил, и потому нельзя было терять время ни на что другое, кроме как предупредить опасность, опередить налет Хасанака на обсерваторию.
Бируни подарил Ибн Сине «Индию», красиво и быстро переписанную для шейх-ур-раиса преданным Сабху. А Ибн Сина с превеликим уважением преподнес Бируни редкостный список «Аль-Канона».
Сарбазы имама Исмаила стояли наготове в густой арчовой роще у выхода из подземного коридора.
Бируни и Ибн Сина чувствовали, что эти их общие мгновения — последние, что никогда больше они уже не увидятся друг с другом. Старались держаться спокойно, но горько, как же горько было им расставаться!
Бируни первым прижал к себе Абу Али:
— Прощай, дорогой мой. Прости меня… И пусть тот, кто тебя унизил, сам будет унижен! Тебя поручаю имаму Исмаилу, а имама — аллаху, Абу Али!
Обнял учителя Ибн Сина, с трудом справляясь со слезами:
— Учитель! Я свое отстрадал, сейчас боюсь за вас. Может быть, нужно и вам уйти к имаму Исмаилу? Хотя бы месяца на два.
— Если мы будем там вместе…
— Увы! Мне как можно скорей надо добраться до Исфахана. Там свирепствует чума. И… задуманы книги, которые я должен еще написать, а в горах их не напишешь.
О справедливых шахах?..
— Надо мной посмеиваетесь, а вы сами, учитель, разве не написали книг о шахах?
— За мной этот грех, Абу Али, за мной.
— Ну, будьте здоровы, учитель. Вашу доброту не забуду никогда.
Ибн Сина отвернулся. Бируни слез не стыдился:
— Счастливого тебе пути, друг мой, брат мой… Да сохранит тебя всевышний, Абу Али!
«Сегодня — четыреста восемьдесят первый год хиджры, восемнадцатое число месяца мухаррам[93]. Шейх, ушедший утром на совет ученых, вернулся домой поздно ночью с каким-то письмом. Шейх был сильно возбужден.
С тех пор как мы вернулись из немилосердной Газны, я не видел шейха в таком состоянии.
Еще весной, после возвращения из Газны, нам вдогонку оттуда пришла весть о кончине султана Махмуда — да сделает аллах его могилу мягкой! Весть эта содержалась в письме Хатли-бегим, там сообщалось, что султан осиротил этот мир в конце месяца савр[94], похоронен был в саду Феруз: в султанате на сорок дней и сорок ночей объявили печаль поминовения.
Эмир Масуд тоже объявил печаль поминовения. Облачился с головы до ног в белое и уже на следующий день отправился в Газну. С войском.
Он был весьма печален с виду, но чувствовалось, что в глубине души его таится радость. Перед выездом в Газну пригласил он всех знатных во дворец, пригласил и шейха. И даже отдал распоряжение освободить Каракез-бегим, которая все еще томилась в зиндане. После того как эмир Масуд покинул Исфахан, в городе установилось спокойствие, черный мор тоже удалось прогнать. Мы были сильно заняты восстановлением библиотеки шейха.
Одно его сильно беспокоило — не было никаких вестей от мавляны Бируни. Поэтому, увидев в руках шейха письмо и его волнение, я сильно обеспокоился. Но слава аллаху — мавляна Бируни, оказывается, был жив и здоров. Письмо прислал нам ученик Бируни, историк Абу Фазл Байхаки. В нем сообщалось о резне, затеянной эмиром Масудом.
Выяснилось, что эмир — истинно сын своего отца. Оказывается, еще не успев доехать до столицы, успел он снять с плеч немало человеческих голов. Оба визиря были тоже казнены. Хотя и говорят, что повинную голову меч не сечет, и хотя они оба, со своими сокровищами и отрядами почета, вышли Масуду навстречу, целовали ноги, каялись и плакали, он их не простил.
Али Гариб был убит в Нишапуре, когда находился в гостях у младшего своего брата: его зарубили саблями.
Абул Хасанак был обвинен в карматской ереси (вот зловещая шутка судьбы!), и его закидали камнями на гератском базаре.
— Вот сам прочитай, — сказал шейх и протянул мне письмо. — Вот это место прочитай!
Я видел немало красивых почерков у разных переписчиков, но красивей почерка Байхаки не встречал. Но то, о чем написал он столь изысканно и красиво, было отвратительно и бесчеловечно:
„Визиря подвели под виселицу — спаси нас от такой казни, создатель! — и приказали раздеться. Абул Хасанак подтянул шаровары повыше, перевязал себя крепко в поясе, снял дорогой зеленый халат, белую рубаху и вместе с черной чалмой отбросил все это от себя подальше. В одних шароварах, белотелый, остановился он под виселицей, повернулся красивым своим лицом к толпе.
Народ не видел от Абул Хасанака ничего хорошего, но все же его жалели, иные — плакали. Чтоб не повредилось лицо от камней, палачи надели ему на голову железную маску, вроде ведра, — и это было сделано потому, что голову Абул Хасанака, кармата, надлежало отправить в Багдад, в подарок халифу. После всех подготовок крикнули: „Правоверные! Закидайте вероотступни-ка камнями!“ Но жалостливый простой люд не захотел выполнить приказ улемов. Поднялся ропот, послышались возгласы: „Зачем беднягу закидывать камнями, все равно собираетесь вешать его! Так вешайте скорей!“ Всадники, окружившие площадь, подавили ропот толпы. И все же палачам пришлось сначала накинуть петлю на шею бывшему визирю. Выбили из-под его ног помост. И снова, обращаясь к народу, приказали побивать камнями Абул Хасанака. Народ опять не послушался. Тогда стали раздавать нищим деньги, и за это они начали кидать камни в висевшего Абул Хасанака, но Абул Хасанак уже был к тому времени мертв. Палачи затем отделили голову от туловища и перевесили труп — ногами вверх[95].
У Хасанака был старый враг Абу Сахл Завзани. Этот человек в день казни своего недруга зазвал многих столпов государства — беков и эмиров — к себе домой на большой пир. В самый разгар его принесли и поставили на дастархан золотой горшочек под крышкой.
— Это свежее, совсем свежее угощение, на радость нам, — сказал Абу Сахл Завзани. — Давайте попробуем, — Отведаем, отведаем! — весело поддержали хозяина гости. Сняли крышку и обомлели, увидев голову Абул Хасанака!..
Да, кто в этом мире творит добро, тот и получает добро, а зло оборачивается злом. Абул Хасанак — пусть аллах простит ему его грехи! — причинил много страданий правоверным, потому, я думаю, и понес наказание. А единственный, кто остался безнаказанным, — так тот самый хитрец, кто назвал себя господином Ибн Синой. Говорят, что хитрец сей, способный, видимо, и блоху стреножить, до сих пор называет себя господином Ибн Синой и подвизается в Мавераннахре“.
Когда я дочитал до этого места, то невольно посмотрел на шейха. Почувствовав мой взгляд и тотчас поняв, что я желал бы спросить у него, шейх сказал:
— Мудрецы правы, Абу Убайд! В нашем мире подлунном тот, кто причинит страдания другим, пострадает и сам, а кто творит добро, пожинает добро… Может, не сразу. Но получается все же так. Человек победит и льва, и кабана… Не сразу. Но победит.
— А Шахвани? — спросил я, скорее всего, невпопад.
Шейх улыбнулся:
— Люди, подобные Шахвани, — загадка мира, которую никто пока не разгадал, ни один мудрец… Мавляна Бируни прав: будем держаться подальше от сильных мира сего. Нет большего счастья, чем знание… Возьми-ка бумагу и перо, да и примемся за работу. Я хочу, чтобы ты кое-что записал, дорогой!»
Из воспоминаний Абу Убайда Джузджани
Ташкент, 1977–1982.
Сетар — трехструнный щипковый музыкальный инструмент. Сетарчи — тот, кто играет на сетаре. Бобо Сетари — глава (буквально: отец, старейшина) сетаристов.
Гиджак — народный инструмент, похожий на скрипку. Пири Гиджаки — большой мастер и наставник гиджакистов.
Хафиз — народный певец. Бобо Хафиз Булбули — буквально: певец-старейшина с соловьиным голосом.
Най — музыкальный инструмент типа свирели.
Талиб — ученик духовного училища (медресе)
Хум — большой глиняный кувшин для хранения воды, масла, вина.