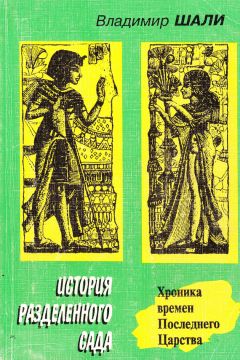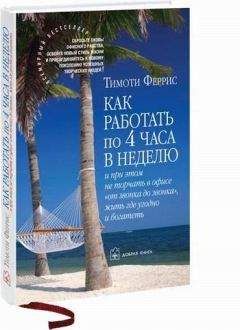Хотя в жестокости и беспощадности он запросто мог бы переплюнуть Темного Лорда ситхов.
Не знаю, каким образом он прочухал о моей ориентации, может я где-то допустил оплошность и вызвал подозрения, может моя смазливая внешность сыграла со мной злую шутку, но он с чего-то решил сделать меня мальчиком для битья и насмешек, а вернее — своей персональной «девочкой». Вот так запросто, не спрашивая моего согласия, а только потому, что в его отбитой башке что-то щелкнуло. Он подкатывал ко мне, не стесняясь даже учителей, делая совсем недвусмысленные намеки, а пошлые «куколка» и «малышка» накрепко прицепились ко мне и преследовали по всей школе. И это выглядело очень странно, ведь у него была подружка гораздо красивее меня, и я даже представить себе не мог, что он, вероятно, не такой уж и натурал, каким прикидывался.
Поначалу я не воспринимал его нападки всерьез и наивно считал, что это всего лишь приколы глупого мальчишки, мол, поглумится и перестанет, и только удивлялся про себя: «Какого хрена ему нужно?». Но затем я начал замечать, как один за другим от меня отвернулись друзья, а некоторые так вообще стороной обходили, будто бы я был чумной. Вряд ли они боялись моих домогательств, скорее всего, не хотели связываться с этим придурком. Я остался совершенно один, и помощи мне было ждать не от куда. Учителя бы мне все равно не поверили, да и какое им дело до какого-то ученика, а родителям я опасался рассказывать, пришлось бы признаваться и во всем остальном. Страшно представить, что бы сделали со мной после таких признаний.
Миллер, чувствуя свою безнаказанность и мой страх, охотился на меня, как хищник охотится за своей добычей. Один или в компании таких же глумливых отморозков, зажимал в темных углах, туалетах или во внутреннем дворике школы, куда меня всей гурьбой затаскивали после уроков. Жадно лапал, облизывая мое ухо своим слюнявым ртом, нашептывая при этом противным мерзким голосом, от которого меня бросало в дрожь:
— Ну что, малыш Роджи, проверим, стал ли ты наконец девочкой. Появилась ли у тебя еще одна дырка, а то моим дружкам не терпится… ты такой хорошенький, такой сладенький, так бы и вылизал тебя всего… девочка моя…
И снова лапал потными руками, до боли сжимая ширинку и протискивая шершавые жесткие пальцы мне чуть ли не в задницу. Я дергался изо всех сил, надрывно мычал в липкую от пота и мокрую от моих слез ладонь, зажимающую мой рот, но только сильнее распалял этих подонков. С каждым разом они как будто становились еще грубее и разнузданнее. И сколько бы я ни пытался спрятаться, меня везде находили.
А однажды заставили встать на колени; Миллер схватил меня за волосы, расстегнул ширинку на своих джинсах и стал тыкать мне в лицо своим вонючим огромным членом. От отвращения меня вырвало на одного из его дружков, и только тогда я был оставлен в покое, напоследок получив от каждого болезненный пинок по животу. В такие моменты я жалел, что не родился уродом. Тогда бы меня вовсе не замечали…
Когда-то давно мой дедушка подарил мне складной перочинный ножик. Красивый, тяжелый, с резной бронзовой ручкой и множеством полезных элементов. Я очень любил своего деда и гордился этим подарком. Хороший был мужик, строгий, но понимающий, да и меня сопляка любил больше всех. Жаль, что помер так рано. Он бы от меня никогда не отвернулся. И теперь его подарок прочно обосновался в моем школьном рюкзаке.
Помощником он был, конечно, слабым, но для устрашения годился. Особенно для тех, кто помладше. Эти меня сторонились, считая конченым психом, и старались не лезть, только издалека обидно задирали. А вот со старшими ребятами было гораздо хуже и еще обиднее: мой ножик с легкостью оказывался в чьих-то руках, и пока один или даже двое крепко держали меня, самый нетерпеливый, нагло поигрывая моим «защитником», трогал везде, где вздумается, и глумливо ржал.
Я терпел, стиснув зубы, обещая себе при первом удобном случае пырнуть кого-нибудь из них и побольнее. Нож возвращали, как ни в чем ни бывало, но перед этим как следует облапав меня за все места, правда, без существенного ущерба. То ли боялись применять насилие, то ли даже такие отморозки не были готовы к однополому сексу. Меня отпускали почти нетронутым, однако это не делало ситуацию менее мерзостной.
Но мой мучитель был другим и вызывал у меня жуткую панику.
Его отбитых мозгов хватило на то, чтобы узнать мой номер телефона, и мои мучения не прекращались даже ночью. Он звонил, когда вздумается, нашептывал в трубку всякие гадости, писал отвратительные сообщения и присылал фотографии своих заросших волосней гениталий, вызывая у меня приступы жуткой рвоты и бессонницу. Самый лучший способ был не реагировать, но он настырно продолжал названивать и писать.
А на следующий день начиналась новая пытка. Я терпел, уже молча, сжимая зубы и заливая слезами чужие безжалостные руки, а он шарил пальцами в моих трусах и угрожающе шептал, как трахнет мой рот и что сотворит с моей задницей, сразу, как только представится подходящая возможность. И гаденько смеялся в мое покрасневшее от стыда и унижения лицо. Я очень боялся, что эта возможность наступит в самое ближайшее время.
Однажды, под конец учебного года, видимо, у всех психов весной случается обострение, он подошел ко мне в школьном коридоре, протянул флакончик смазки и, обслюнявив при всех мои губы, прошептал:
— Хорошенько подготовься, малышка, завтра я с тобой развлекусь…
Я еле успел добежать до туалета, от страха меня так выворачивало, что чуть сознание не потерял. Я не выдержал и незаметно сбежал прямо посреди урока. Примчался домой и, захлебываясь словами и потрясая перед матерью флакончиком клубничного лубриканта, вывалил все, что накопилось у меня на душе: о Тони Миллере, о его дружках и их издевательствах.
Я думал, она меня поймет, поддержит и успокоит, и обязательно поможет. Она же моя мама… Но испуг и отвращение, появившиеся на ее лице, лишили всякой надежды. Оттолкнув меня, она долго кричала, что давно заметила мой нездоровый интерес к мальчикам, и мои длинные волосы, которые столько раз обстригались против моего желания, и кучу браслетов и подвесок, и слишком мягкий голос, и очень женственные черты, как будто я был виноват в том, что родился именно таким. Хотя отрицать очевидное не было смысла.
А потом она сказала жуткую вещь, которую я вспоминаю каждый раз, когда со мной случается что-то очень нехорошее:
— Доигрался? Так тебе и надо…
Мне стало страшно. И даже не потому, что Миллер исполнит свои угрозы, а потому, что я совсем один и беззащитен даже в собственном доме. Потому что мне никто не поможет. Мама пригрозила, что все расскажет отцу, когда он вернется из поездки, и вот тогда безграничный ужас затопил мой мозг, лишая всяческого здравомыслия. Уж если мать не поверила, то отец меня вообще убьет, и даже если не убьет, то точно покалечит и выгонит на улицу. Сын — педик! Он никогда не простит такого. И в тот момент я увидел единственный, казавшийся правильным для себя выход.
Сейчас-то я понимаю, что то решение бежать было вызвано эмоциями, первым влетевшем в голову импульсом, но другого пути я и не видел тогда.
Совершенно раздавленный такой несправедливостью, я поднялся в свою комнату. Достал старый, но очень вместительный рюкзак, на дно кинул кроссовки, документы, перочинный ножик, зубную щетку, какую-то одежду, любимый томик Керуака и стал ждать ночи. Когда все уснули, я спустился на кухню, собрал немного еды, а затем тихонько, чтобы не разбудить мать, пробрался в кабинет отца.
На встроенном в нижний отсек рабочего стола сейфе, набрал комбинацию из нескольких цифр (отец никогда не скрывал от меня код — наши дни рождения: мой и его), схватил самую большую пачку денег из тех, что были отложены на покупку новой машины, и бесшумно выскользнул в темный коридор.
От напряжения я до рассвета проворочался в какой-то мутной, липкой полудреме и так и не смог нормально заснуть. На мгновение забывался тревожным сном и вновь просыпался — постоянно мерещились какие-то шаги и голоса… Утром подскочил ни свет ни заря с больной от слез и тяжелых мыслей головой, сложил поверх вещей приготовленные накануне продукты, вытащил сим-карту из телефона — его тоже запихал в рюкзак, оделся и спустился вниз. Страх быть застигнутым на месте, словно по моим глазам можно было понять, что я задумал, гнал меня прочь. Поэтому, бегло оглядев прощальным взглядом длинный коридор, лестницу наверх и любимые мамины цветы, я вышел на улицу и аккуратно захлопнул дверь. Это был последний раз, когда я видел свой дом. Отец уехал надолго и был далеко, на мать я все еще злился, а сестренку попросту не захотел будить, поэтому ни с кем толком не попрощался.