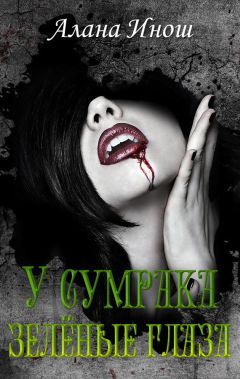Есть и пить в такой антисанитарии не хотелось... Вино я отхлебнула прямо из горлышка картонного пакета: предложенный мне стакан выглядел сомнительно. А Воробьиха, стащив со всклокоченной головы шапчонку, вовсю уплетала тушёнку прямо из банки, откусывая большие куски хлеба.
— Ты чего не ешь? Вот, бери колбасу, хлебушек... Ну, и рассказывай давай, что у тебя стряслось...
Что у меня стряслось? Да просто небо рухнуло на меня, изранив с головы до ног осколками звёзд... Но разве об этом расскажешь, не прослыв чокнутой? И поймёт ли суть моей проблемы моя собутыльн... то есть, собеседница? Обнаружение сходства облика человека и выбранной им бутылки с выпивкой было, по-видимому, потолком её способностей.
— ...Ну вот, как откинулась я с зоны, так они меня в оборот и взяли. Ладно, хоть ума хватило у меня ноги сделать в другой город. И пешком шла, и зайцем в электричке, и велик у пацанчика одного одолжила... Ну, вот... — Воробьиха срыгнула воздух, налила себе ещё одни "полстаканчика", опрокинула в себя. — На велике-то этом ДТП у меня и вышло...
У Воробьихи вышло ДТП на велосипеде, а моё сердце врезалось в непреодолимую преграду — стену неверия. Апрель на своём исходе швырял в грязное окно снежную крупу и не хотел показать мне дорогу к эликсиру для слепых душ и сердец. Одна капля этого средства превратила бы сердце моего ангела в кристалл, в котором отразилось бы всё, что я чувствую... Потому что слов и дел, как выяснилось, было мало, чтобы она поверила мне.
— ...Ну вот, короче, он и говорит: "Сымай трусы, расплачиваться будешь". Ну, а я ему насосом-то промеж глаз и захреначила. Ладно, хоть не монтировкой, но кровищи тоже — будь здоров было. Живой остался, тока окривел малёхо на один глаз...
Увлекательный рассказ Воробьихи был прерван звонком в дверь.
— Обожди, посиди тут.
В прихожей послышался женский голос — жеманно-приторный и противный, как несвежий корж с лёгкой алкогольной пропиткой:
— Ма-ань... А я к тебе... И не с пустыми рука-а-ами, хи-хи!
— Чего там у тя? — ворчливо спросила Воробьиха.
— Как чего? Фуфырик! — ответила гостья.
— Фуфырик — это хорошо. Тока, Тонь, ты не обижайся, но в плане любви сегодня ты пролетаешь, как трусы над Магаданом... У меня принцесса в гостях... И огненной воды у нас — до хрена! Но и твой подарок сгодится. Водки мало не бывает!
— Ка-а-акая ещё такая принцесса?! — В голосе гостьи зазвенела истеричная нотка. — Это чё, Зинка из соседнего подъезда, чё ли? Ну, я этой лахудре щас её три волосинки-то повыдергаю...
— Э-э, притормози, мать! — В прихожей слышались звуки возни. — Какая Зинка? Это жар-птица самая настоящая ко мне залетела!
— Птичка? — психовала гостья. — Ну, щас она у меня пёрышек в хвосте недосчитается...
Решив, что с меня хватит этих "свинцовых мерзостей", я встала и пошла к выходу. В прихожей в свете грязной лампочки можно было увидеть картину маслом: Воробьиха пыталась дотянуться до бутылки водки, которую держала на отлёте дама постбальзаковского возраста, в пёстром домашнем халате и чёрных колготках, вульгарно и аляповато накрашенная, с обесцвеченными волосами, стянутыми на затылке в жидкий хвостик. Она была не такой сморщенной, как Манька, но следы злоупотребления на её лице тоже проступали весьма явственно. Упираясь Воробьихе в грудь, она не позволяла ей достать заветный "фуфырик", отводя руку с ним как можно дальше. Увидев меня, она несколько опешила и пробормотала:
— Здрасьте...
Весь драчливый пыл у неё куда-то пропал, и она растерянно заморгала, а Воробьиха с гордостью объявила:
— Во, гляди, какая царевна ко мне заглянула! Не тебе, мымре крашеной, чета!
Дама в халате скуксилась, плаксиво скривив рот.
— У-у-у... И чем ты после этого лучше мужика? — бросила она Воробьихе слезливый упрёк. — Все они ищут кого помоложе, покрасивше, да побогаче... И ты туда же...
— Я так понимаю, я здесь третья-лишняя? — сказала я. — Не беспокойтесь, мне уже пора идти.
Воробьиха, забыв и о бутылке, и о своей расстроенной даме, бросилась ко мне и принялась снова водворять меня на место.
— Ты, лапушка моя, куда собралась? — вкрадчиво уговаривала она. — Гляди — ночь на дворе уже, куда ж ты пойдёшь? Да и погода — собачья... Лучше тут, в тепле, с нами... Тонька, хватит выть, подь сюды! Фуфырь на стол ставь. Третьей будешь.
Дама не отказалась, присела к столу и опрокинула стопку водки, бросая на меня косые взгляды. Ещё через пару стопок она подобрела и стала интересоваться, кто я, как живу, чем занимаюсь. Я заверила её, что никаких видов на её подругу не имею, и это окончательно расположило Антонину ко мне. Поскольку я больше ничего горячительного не пила, она услужливо сбегала к себе домой за пачкой чая, заварочным чайником и чистой чашкой: ничего этого в безалаберном хозяйстве Воробьихи не обнаружилось. Пока она хлопотала у плиты, Воробьиха, уже порядком окосевшая, вещала мне:
— Принцесса, ты не уходи, а? Когда ж ещё мне доведётся вот так, вживую, на такую красивую жар-птицу полюбоваться? Ты если не хочешь, я тебя пальцем не трону... Мне для этого дела и Тонька сойдёт. А на тебя — хоть посмотреть...
— Вот, пейте чаёк свеженький, — поднесла мне Антонина чашку с крепко заваренным чаем.
Я отпила глоток и поморщилась: это был почти чифирь. И сахара подруга Воробьихи бухнула ложки четыре, не меньше... Впрочем, и в этом большого смысла не было, как и в буране за окном, и в осколках моего сердца на полу этого бомжатника, и в одиноко светящемся окне напротив...
После этого чая на меня навалилась такая усталость, что я уронила голову на руки, уплывая в мучительный транс. Стукнул раздвигаемый диван, меня взяли под руки, проводили к нему и уложили — не раздевая, прямо в пальто, только сапоги сняли. Диван вонял старой мочой, подушка — чем-то кислым...
Серый дневной свет прорезался мне в глаза. Во рту стояла пустынная сушь, а правую сторону поясницы разрывала адская боль. Рука занемела до мурашек и не слушалась... Вытащить её из-под головы удалось с трудом. Вот дряни, наверняка что-нибудь подсыпали в чай...
Я села. От слабости потемнело в глазах, а голову пронзил резкий, неприятный звон — будто тончайшая проволока воткнулась в мозг.