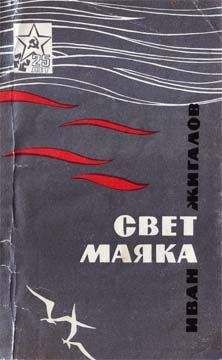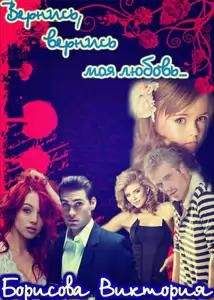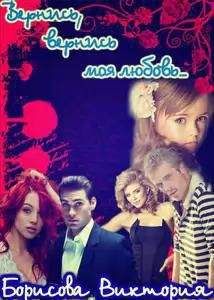— Нет, я никогда не мог бы так подумать. — Он мечтал лишь о том, чтобы оставаться всегда подле нее, боготворя красоту Сары и щедрость ее души. — Я недостоин тебя, дорогая. Я не хочу, чтобы ты потратила свою жизнь на любовь ко мне.
— Но почему, Габриель? Что это значит? Как можешь ты быть недостоин моей любви?
Перед его глазами встали тысячи призраков. Реки крови, океаны смерти. Столетиями он убивал ради кровавой жажды. Он проклят. Страшный он получил удар — вечную жизнь и вечное проклятие.
Надеясь отпугнуть ее, он позволил ей глубже заглянуть в свои глаза, зная: то, что она прочтет там, будет вернее всяких слов.
Он стиснул руки, ожидая встретить в ее глазах отвращение, но этого не случилось.
Она не отрывала глаз от поднятого к ней лица, а затем скользнула рукой по его волосам.
— Мой бедный ангел, — прошептала она. — Скажи мне, что так мучает тебя?
Он качнул головой, не в силах говорить из-за комка, стоявшего в горле.
— Габриель. — Его имя и ничего больше. А затем она склонилась и поцеловала его.
Это было лишь легкое прикосновение губ, но оно показалось ему горячей самого жаркого дня середины лета, ярче солнечного света, оно обожгло его, и на какой-то момент он ощутил в себе прежнего зверя.
Раздавленный своей страшной тайной, он склонил голову, чтобы она не могла видеть его слез.
— Я буду любить тебя, Габриель, — говорила она, гладя его волосы. — Я беспомощная и тоже несчастная.
— Сара…
— Ты вовсе не обязан любить меня в ответ, — поспешно сказала она. — Мне нужно лишь, чтобы ты знал, что больше не одинок.
Габриель протяжно вздохнул, а затем взял руки Сары в свои, крепко сжимая, чувствуя жар ее крови, пульсацию ее сердца. Очень нежно он перецеловал хрупкие пальчики и вдруг, вскочив на ноги, подхватил ее на руки.
— Уже поздно, — сказал он хриплым голосом, выдававшим бурю страсти, бушевавшую в нем. — Мы должны уйти отсюда раньше, чем ты простудишься.
— Ты не сердишься?
— Нет, дорогая.
Как мог он сердиться на нее? Она была его жизнью, и светом, и надеждой; он хотел бы снова припасть к ее ногам и умолять о прощении за свою ничтожную участь и отвратительные злодеяния.
Но он не мог признаться ей, не мог взвалить на нее свою ужасную ношу, сознание того, кем он был. Не смел осквернить ее любовь горькой правдой.
Уже почти на рассвете они подошли к веранде, на которую выходили двери ее комнаты. Уложив Сару в постель, он встал рядом на колени.
— Благодарю тебя, Сара. Легкая улыбка скользнула по ее губам, она взяла его руки в свои.
— За что?
— За твою ласку, за слова любви. Я всегда буду дорожить ими.
— Габриель… — Улыбка исчезла. — Уж не хочешь ли ты сказать мне «прощай»?
Он уставился вниз на их переплетенные руки: ее — такие маленькие, бледные и хрупкие, пульсирующие жизнью, и свои — большие и сильные, безвозвратно запачканные кровью и смертью.
Если бы у него была хоть капля чести, он сказал бы ей «прощай» и ушел, чтобы никогда больше не видеть.
Однако даже в бытность свою обыкновенным смертным он мало следовал долгу чести, если это расходилось с его желаниями. Все, чего он хотел теперь, было заключено в Саре. Габриель нуждался в ней так, как еще ни в ком в своей проклятой жизни. И, возможно, он тоже был нужен ей. Ему так легко было приучить себя к этой мысли, даже если на деле все оказалось бы по-иному.
— Габриель?
— Нет, дорогая, я не намерен прощаться с тобой. Ни теперь, ни когда-нибудь потом.
По ее глазам он сразу увидел, насколько ей стало легче на душе, и это было для него как удар ножом в сердце. «Самодовольный монстр, полутруп, ты не смеешь так поступать с ней», — твердил он себе. И все же не мог отпустить ее…
— Тогда до завтра? — сказала она, расцветая улыбкой сильнее прежнего.
— До завтра, дорогая моя, — прошептал он. — И все следующие ночи твоей жизни я буду принадлежать тебе.
Странные образы возникали в его сознании-языки пламени, испуганные кричащие дети, истерически завывающие женщины.
Их боль проникала в него, изматывающая, тошнотворная боль.
Габриель продирался сквозь наслоения сна, пока его глаза не открылись в темноту, но он тут же понял, что на улице еще день. Какое-то время он лежал в растерянности. Ничто, кроме неминуемой угрозы, не могло пробудить его среди бела дня, вызвать из тяжкой летаргии.
Сара!
Он знал, что в этот момент жизнь ее находится в опасности, что боль, не отпускавшая его, — это ее боль. Он стиснул руки в кулаки, силясь приподняться. Это было все равно, что выбираться из зыбучих песков, и он упал на спину, учащенно дыша, с колотящимся от страха сердцем.
— Сара!
В его сознании снова и снова, как раскаты грома, гремело ее имя.
— Сара!
С ней случилась беда, возможно, она умирает, но до заката он не в силах ей помочь. Никогда прежде Габриель не ощущал так остро свою беспомощность, никогда так не проклинал себя. Он глубоко страдал, он умолял небеса сжалиться над ней, уберечь ее.
— Молю, молю, молю… — без конца твердил он, проваливаясь в зловещую черноту.
Пробудившись к вечеру, он все еще ощущал ее боль, ее страдание, но знал, что она пока держится за жизнь.
«Я иду, Сара!» Габриель посылал мысли на расстояние, от своего сердца к ее. «Держись, дорогая, я иду».
— Он идет… — продираясь сквозь теснину боли, Сара вновь и вновь повторяла эти слова.
— Ляг спокойно, дитя, — говорила сестра Мария-Жозефа. — Ты должна лежать спокойно.
— Но он…идет…Я… я должна быть готова. Сестра Мария-Жозефа переглянулась с сестрой Марией-Инес.
— Кто идет? О ком это она?
Сестра Мария-Инее покачала головой.
— Возможно, о своем отце. Ты побудешь с ней, пока я пойду гляну на остальных детей? Боюсь, Элизабет не переживет эту ночь.
Сестра Мария-Жозефа кивнула.
— Бедное дитя, — пробормотала она и, склонив голову над четками, начала шептать молитвы.
Габриель двигался по узкому проходу, его ноздри ловили запах спирта и антисептиков, карболки и эфира. И крови. Здесь стоял такой густой запах крови.
Волна голода поднялась в нем, ударила в него, захлестнула. Кровь. Тепло и сладость.
Он свернул в следующий проход, и жажда крови ушла, уступив место боли. Это была боль Сары. Она была без сознания, но ее молчаливые вскрики доносились до него, разрывая ему сердце и душу.
Габриель молчаливо стоял у дверного проема. Сара лежала на узкой кровати, накрытая тонкой белой простыней. Пожилая женщина сидела рядом с постелью в простом деревянном кресле с высокой спинкой, сжимая в искривленных пальцах потертые четки.
Женщина взглянула на него, едва он ступил в комнату, ее голубые глаза в красных прожилках внезапно расширились от ужаса.