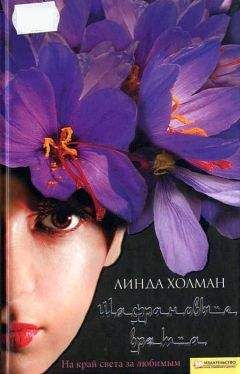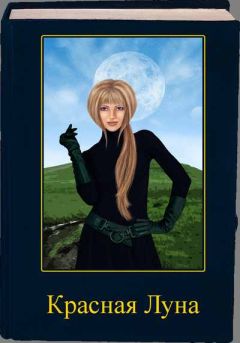Я была поражена.
— И из-за своей ревности и своего шаткого положения она придумала такую чудовищную ложь?
— Когда она сказала ему, я разозлился на нее. Я открыл было рот, чтобы возмутиться, рассказать Этьену правду, сказать, что она солгала. Но все произошло так быстро! Этьен буквально подпрыгнул на месте; он сказал, что хотел во что бы то ни стало остановить болезнь, не передать ее следующему поколению. А получилось, что это произошло дважды: он уже зачал одного ребенка — с тобой, Сидония, — и только что узнал, что создал и второго. Баду. Его лицо стало белым, он поднялся, пошатнувшись. Я схватил его за руку со словами: «Нет, подожди, Этьен!», но он убежал в ночь.
Я представила эту сцену.
— Я поругался с Манон, сказал, что она должна рассказать ему правду. Но она заявила, что он заслужил это чувство вины и унижение. Что в мире недостаточно вины для Этьена; может быть, теперь он поймет, что чувствовала она, когда их отец предал ее. — Он помолчал. — Манон и Этьен похожи, Сидония, тем, что думают только о себе. Это их общая черта.
Я знала, что он прав.
— Тем не менее, несмотря на ярость Манон, я оставался там всю ночь, — продолжил он, — надеясь, что Этьен вернется. Она делала много чего такого, что я не одобрял, но этого я не мог допустить. Несмотря на недостатки Этьена и его проступки, было нечестно заставлять его так страдать. С него достаточно и неизлечимой болезни. Я собирался открыть ему правду о том, что Баду — не его сын. — Он обхватил себя руками. Я увидела выступившие на них вены. Это были руки, которые могли выполнять тяжелую работу и нежно обнимать ребенка. — Но он не вернулся. Он ушел, оставив свою одежду, книги и даже очки. Через несколько недель он прислал Манон письмо — то, о котором я тебе уже говорил. Он написал, что у него было время подумать и он готов взять ответственность за своего ребенка. Он будет приезжать, чтобы видеться с ним, каждые несколько месяцев. Он писал, что хочет быть уверен, что его ребенок ни в чем не нуждается.
Я кивнула. Манон решила, что она победила. Теперь она могла выпрашивать у Этьена что угодно. И он бы обеспечивал ее, чувствуя свою вину.
Было тихо, только время от времени раздавалось воркование голубей.
— И что — ты сообщил ему?
Ажулай покачал головой.
— Когда я забирал Баду перед тем, как мы поехали в мою деревню, он был там, как я тебе уже говорил. Но тогда момент был неподходящий. Баду был там, и Манон поторопилась нас выпроводить. А Этьен сказал, что останется здесь на некоторое время. Я знал, что скажу ему, когда мы вернемся из блида. И я пошел туда сегодня вечером, чтобы поговорить с ним, но его не было — так сказала Манон. Но ей известны мои намерения, поэтому она сделает все возможное, чтобы остановить меня. Она сказала, что не хочет меня видеть и чтобы я больше не приходил в Шария Зитун.
Остался ли Этьен в Марракеше? Я вспомнила, как он ушел сегодня днем, и мне было интересно, сбежал ли он снова, как когда-то сбежал в Америку, узнав, что женщина, которую он любит, — его сводная сестра? Как он умчался в Марокко, когда я сообщила ему, что беременна? Как он сбежал в другой город, когда Манон сказала ему, что Баду его сын? Вот как Этьен ведет себя, когда не хочет решать проблему. Убегает.
— Все, что мне остается, — это надеяться, что я увижу его снова и смогу открыть ему правду. Но это будет трудно. Манон постарается этого не допустить.
Мы помолчали.
— И что теперь, Сидония? — спросил он.
— Теперь?
— Что ты будешь делать?
— Я… Теперь меня здесь ничто не держит. В Марракеше. — Я посмотрела на него, ожидая, что он скажет то, что я хотела услышать: «Останься, Сидония. Я хочу, чтобы ты осталась. Останься и будь со мной».
Он долго ничего не говорил, не смотрел на меня. Я видела, как двигался его кадык, когда он сглатывал. Наконец он сказал:
— Я понимаю. Эта страна так отличается от той, где ты жила с рождения. Тебе нужна свобода. Здесь ты будешь чувствовать себя заключенной.
— Заключенной?
Только теперь он снова посмотрел на меня.
— Положение женщины здесь… совсем не такое, как в Америке, в Испании. Во Франции. Во всех странах мира, где такая женщина, как ты, может делать то, что захочет. То, что ей нравится.
Мне хотелось спросить его, что значит «такая женщина, как ты». Я подумала о своей жизни в Олбани. Была ли я свободной?
— Я не чувствую себя здесь в заключении, — сказала я. — Да, сначала мне было трудно. Я… боялась. Но это было отчасти из-за того, что я была одна, а еще из-за того, что не до конца понимала, какова моя цель, хотя убедила себя, что понимаю. Но с тех пор как я поняла… с тех пор как я сроднилась с Марракешем, освоилась здесь, в медине, я, хотя и по-прежнему не уверена в том, что поступаю правильно, осознала, что чувствую. Я чувствую, что живу. Даже мои картины стали другими. Они тоже живые, никогда раньше они не были такими.
— Но, как ты сама сказала, причина, по которой ты приехала в Марракеш, уже не актуальна.
— Да. Этьен для меня теперь не существует. — Я отвернулась от Ажулая и уставилась на плитку. Разве он не понимает, что я хочу ему сказать? Разве он не разыскивал меня, не звал меня с собой в сад, в деревню, где живет его семья? Разве он не попытался защитить меня, когда узнал, что Этьен в Марракеше? Он только что сказал, что Манон ревновала, потому что знала, что Ажулай заботится обо мне.
Неужели я его не так понимала? Но время, которое мы провели в блиде… то, как он смотрел на меня. То, как мы рассказывали друг другу о своей жизни. То, как он касался моих ног. Его губы возле моих.
Но он не попросил меня остаться.
Неужели я настолько ошиблась?
— Может… может быть, я останусь, но только чтобы закончить мою последнюю картину, — сказала я, заставив себя посмотреть на него.
Он кивнул.
Мне хотелось, чтобы он сказал еще что-нибудь. Но он молчал. Потом встал и пошел к воротам. Я поднялась, пошла за ним и взяла его за руку.
— Значит, мы с тобой сейчас прощаемся, Ажулай? Значит, это наша последняя встреча? — Я с трудом произнесла эти слова. Я не могла сказать ему «прощай». Не могла.
Он посмотрел на меня, его глаза потемнели и уже не были такими синими.
— Ты этого хочешь?
«Ажулай! — хотела крикнуть я. — Перестань быть таким… таким вежливым!» Я не смогла найти более подходящее слово. Я покачала головой.
— Нет. Нет. Я не хочу прощаться.
Он не приблизился ко мне.
— А… ты думаешь, ты действительно сможешь жить в таком месте? Жить, Сидония. Не приезжать, не оставаться на короткое время. Не бродить по рынкам или мечтать в садах. Я имею в виду действительно жить. — Он помолчал. — Растить детей. — Он снова умолк. — Несмотря на такую разницу между миром, который ты когда-то знала, и этим?