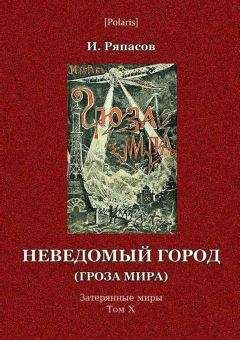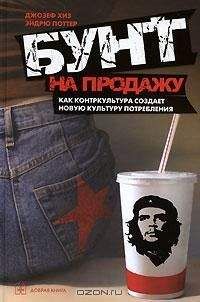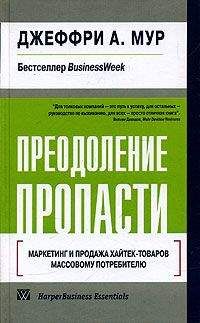А потом взрыв, мощный, пронизывающий: в глазах, в ушах, в голове, в сердце – ярчайший, абсолютно белый, лишь на самых кончиках лучей язычки желтоватого. Такой яркости она не чувствовала никогда, так, наверное, бывает, если забраться в середину солнца. Только совсем не жарко, наоборот, холодно, можно окоченеть. И в нем, во взрыве, в каждой его частичке – бессчетное количество маленьких взрывов, и они заполняют ее всю, абсолютно ничего не оставляя. Так что когда взрыв стихает, остается лишь одна черная, ничем не заполненная пустота. И ничего, кроме нее. Пустота тянется долго, очень долго. Так долго, что даже время перестает существовать. До тех пор, пока не раздается еще один взрыв, равный по силе прежнему, а потом и он переходит в мрак и пустоту.
Взрывы продолжали происходить, они стали подсвечиваться цветами – голубоватым, розовым, желтым, фиолетовым, словно груда бриллиантов сверкала в ярком световом потоке. И от того, что до взрывов и после них все заполняла пустота, яркость следующей вспышки была восхитительной и подавляла мощью и красотой.
Оказалось, что можно жить без мыслей, без памяти, без чувств, даже без времени, даже без пространства, – полностью уйти в себя, погрузиться, стать замкнутой черной дырой, блаженствовать в бесконечном спокойствии пустоты, накапливая силы. С тем, чтобы выплеснуть их все без остатка навстречу новому ярчайшему взрыву, страдать внутри его, восхищаться его бесподобной красотой, немыслимой в живой природе, отдавать себя ему, растворяться в нем, исчерпаться, истощиться до полной прозрачности. И вновь впасть в пустоту, провалиться в ее бестелую, бездонную, успокаивающую нирвану и покоиться в ней, невесомой, накапливать силы, наливаться соками, энергией, желанием. Только для того, чтобы снова выплеснуть их в новой неистовой вспышке и снова раствориться в ней без остатка.
Такого счастья, такого блаженства не бывает в природе, не может, не должно быть. Но они были – и счастье и блаженство – именно потому, что вышли за рамки природы, стали ее отрицанием, противоречием. Стали параллельным существованием, тем, что находится за пределами реального мира.
И ничего, кроме них, больше не нужно – ни желаний, ни потребностей, ни примитивной пищи, ни воды, ни даже воздуха. Она, Элизабет, стала замкнутой системой, входящей в себя и заканчивающейся собою.
Первым вернулось пространство: не то запутанное, трехмерное, которое всегда приводило к сложностям, а простое, понятное. Оно было совершенно плоским, лишенным вертикальной составляющей, и оттого удобным, легко подстраивающимся под желания. Во всяком случае, под то, что от них осталось.
Пространство колебалось, принимая гибкие, замысловатые формы, как если бы прозрачное стекло повесить горизонтально в воздухе и капнуть на него густым оливковым маслом. Стекло бы колебалось в воздухе, балансируя в нем, а капли, растекаясь, постоянно меняли бы форму, плавно изгибая очертания, то выпячиваясь округлыми частями, то наоборот, втягиваясь внутрь полусферами.
Так же выглядело и пространство. Сначала оно казалось черно-белым, вернее темно-белым, вернее серым, но потом в нем начали появляться цвета: тоже слабые, сглаженные, они совершенно не раздражали, просто их приятно было чувствовать внутри себя.
Следующим после пространства стало возвращаться время – тихими теплыми толчками. Оно оказалось не постоянным, как прежде, не непрерывным, а имело вполне ощутимые начало и конец. Когда время заканчивалось, снова наступало безвременье, плоскость пространства колыхалась сама по себе, а затем время наступало снова – новым, тоже округлым куском.
А еще оно двигалось неравномерно – могло замедлиться, почти остановиться, стать тягучим, ленивым, извилистым. А могло ускориться, набирать стремительность, стать плотным, жестким и совершенно прямым. Собственно, оно вело себя как пространство, оно само стало дополнительным пространством, но неравномерным, неоднородным. Если пространство выглядело плоским, то время было, как свернутая трубочка, и уходило само в себя слоями, в которых невозможно было разобраться.
Потом на плоскости пространства стали появляться пятна, очертания, они приобретали форму, обрастали тенями, но прежде чем удалось их определить, возник звук. Он, как и пространство, возник не снаружи, а изнутри, и надо было прислушиваться к нему, сосредотачиваться, что было сложно после бесконечной, бесчувственной нирваны.
Но звук требовал, он вибрировал, выделяясь отдельными тонами, оказалось, что звуки составляют слова, они наверняка имели значение, в них без сомнения был заложен смысл. Раньше Элизабет умела разбираться в смысле слов, но теперь ненужное умение атрофировалось, раскололось на куски, и его надо было обретать заново.
– Дина, – наконец пробилось ее имя и тут же повторилось: – Дина, Дина. Ты слышишь меня? Чудесная Дина. Тебе хорошо. Тебе чудесно хорошо. Ведь так?
А потом появился другой голос, тоже изнутри, его понимать было значительно легче, женский голос – тихий, спокойный, умиротворенный, в нем отчетливо проступало счастье.
– Да, – ответил он.
– Вот видишь, как чудесно, – снова проговорил мужской голос. Он казался ласковым, но в то же время твердым и совершенно уверенным. Во всем уверенным. – А будет еще лучше, будет божественно хорошо. Так хорошо, как еще никогда не было. Ты веришь мне?
– Да, – снова отозвался женский счастливый голос. Он был бесконечно знакомый, она слышала его всю жизнь. Дольше, чем жизнь.
Плоское пространство снова заколебалось, и тени на нем очертились контурами форм, но составить их вместе было невозможно, только по частям. Одна форма напоминала нос, другая, наверное, губы – они были плотно сжаты, непонятно, как из них могли возникать звуки. Скоро контуры разошлись, расширились, теперь можно было различить мельчайшие, незаметные прежде детали. Будто смотришь на увеличенную фотографию и отделяешь каждый волосок, каждую пору на коже.
Но время встряло новым округлым обрезком, и формы отодвинулись, отъехали назад, словно сбилась оптическая фокусировка. И стало совершенно очевидно, что нос мужской и губы мужские, такие плотные, жесткие губы могут принадлежать только мужчине. Вскоре к носу прибавились щеки, к губам – подбородок. Все отлично подходило друг к другу, будто специально составлено заранее.
Оказалось, что на плоскости пытается разместиться лицо, но плоскость колебалась, перекатывалась плавными, обрезанными краями, и лицу пришлось отъехать еще дальше, уменьшить каждую часть в размере, чтобы вписаться в плоскость. Вот на нее въехали глаза, лоб – лицо стало очень знакомым, родным, теплым. Ему нельзя не довериться.