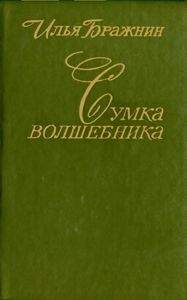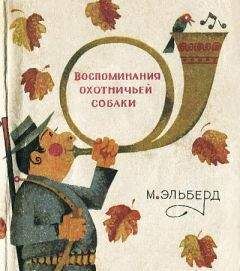Через неделю Саша перезвонил, беспечно поинтересовался планами на вечер. Я ответила, что занята. Мой голос был глух, тон неприветлив. Больше он не перезванивал. Летом я увидела его на пляже в Зеленогорске, с женой и двумя хмурыми девочками. Дочки громко ссорились из-за мяча. Я не испытала ни досады, ни обиды, ни грусти. Многократные Интернет-вакцинации привили равнодушие.
Все лето я лавировала между встречами с Интернет-мужчинами и работой. Случалось, что мелкие пригородные командировки совмещала со свиданиями. Я ходила в театры, рестораны, на концерты, салюты и ночные крытые катки. Припоминаю, как однажды полдня провела в Павловском парке в обществе славянских фундаменталистов. Немногочисленной группой они шествовали по аллеям парка в малорусских вышиванках, вооружившись посохами, почем зря кляли жидомасонов, ратовали за восстановление Киевской Руси и пугали отдыхающих. У предводителя с плеча свисала волчья шкура, стеклянные глаза зверя блестели тусклым безнадежным светом. Я ожидала, что они начнут колядовать у киосков в Тярлево, но росы извлекли из мешка казну, деловито справились о ценах и приобрели пирожки с капустой, а после степенно опустились на траву. Мы с Юрой-34 случайно прибились к ним у входа в парк. Юра, пригласивший меня на загородную прогулку, был худ, бледен и невысок ростом, работал художником-дизайнером в типографии, оформлял шоколадные обертки. Он говорил, не умолкая ни на секунду.
– По сути, лучше так, на свежем воздухе. Пусть себе митингуют, лучше, чем водку хлестать, – рассудительно заметил он. – Только ты не смейся, кажется, для них это все очень серьезно. А ты, я вижу, можешь! – Юра ущипнул меня за ягодицу. – Пре-зики взяла? Может, за кустик сходим, пока славяне трапезничают?
Еще пару месяцев назад я бы оторопела от такого оборота, залившись тургеневским румянцем. А теперь ни один мускул не дрогнул, будто не слышала.
Я лишь утвердилась в своем упорстве. Поначалу подруги живо интересовались, потом подтрунивали, а спустя несколько месяцев сочувствовали: «Неужели ни один тебе не подошел?» Отныне я знала, чего хочу, из десятка встреч, лиц, сотен слов получив эти знания. Оставалось терпеливо ждать встречи с тем единственным, чей контур, едва уловимый, как апрельский зеленый дым над голыми ветвями, плыл в моем воображении.
Ольга звала на море, но я отказалась.
– Оленька, прости, – бормотала я, – ты не понимаешь. Не могу я просто так уехать, пока личная жизнь не устроена.
– Ну-ну, – сдержанно отвечала Ольга. – Не ожидала от тебя такого фанатизма. Как-то легче надо относиться ко всему. Настоящая встреча произойдет, когда этого не ждешь. А ты, как оголтелая, носишься по Интернету! По-моему, у тебя уже зависимость. Тебе надо просто передохнуть! Поехали!
– Олюня, нет! – выдавила я. Подруга сменила тактику:
– А как же твои любимые турецкие десерты? – Она нараспев продолжала: – Вино, фрукты, сладости. Море. Загар. В турецкую баню пойдем, в Пам-мукале съездим.
– Я подумаю.
– Так, с вами все ясно, дамочка. Хотите сидеть дома – сидите! – Ольга положила трубку.
Он снился мне, и казалось, достаточно одного взгляда, слова, жеста на первом же свидании, чтобы узнать его. Природа не терпит пустот, неустанно замещает освобожденные пространства, гоня послушные облака в зоны низкого давления, затягивая раны соединительной тканью, населяя сорной травой не засеянные земли. Ощущая рядом пустоту, я стремилась заполнить ее доступными мне средствами.
Родители перебрались в отпуск на дачу. Квартира осиротела. В кастрюлях кустилась седая плесень, а во мне поселилась музыка. Я удивленно прислушивалась к ней, шагая по улицам, я видела ее в золотых прорезях плотной листвы, в дрожащем от зноя мареве, поднимающемся над асфальтом, в радужных брызгах поливальных машин. Танцующей походкой я шла на встречи, танцующей уходила.
Я стала рассеянной – путала задания на работе. Новая начальница отдела перестала раздражать бестактностью и рвением, простирающимся далеко за пределы должностных обязанностей. Комсомольская, а затем партийная закалка стала для нее незаменимым подспорьем в освоении корпоративной этики. Меня коробило от необходимости называть пожилых сотрудников по имени, моя же новая коллега покорно мирилась с любым корпоративным правилом. Более того, я подозревала, что она нуждалась в правилах и ограничениях, как поезд в рельсах. Я едва удерживалась от улыбки, когда седеющая партийная матрона с внушительным бюстом представлялась кокетливо: «Катя» или загребала в столовой салаты руками: «Мы одна фирма, одна команда. Мы – семья. А в семье можно обойтись без ложек. Мы доверяем друг другу».
Обновив лексикон словами «толерантность», «дресс-код», «коммуникативные проблемы», она бросилась на поднятие корпоративной целины. Катя была неутомима в организациях летучек и праздников с бездарной самодеятельностью, составлении безграмотных, но пылких инструкций, в тотальной слежке и устроении доски почета с фотографиями усталых швей и румяных менеджеров. Казалось, не останови ее вовремя, и она закажет портрет обожаемого руководителя с церетелевским размахом и водрузит его над входом с надписью: «Слава Шершневу!» В искусстве вылизывать начальственные задницы ей не было равных. Не удивительно, что в туалете административного корпуса периодически пустовали ячейки с бумагой. Скорее, удивителен тот факт, что бумага изредка появлялась – в ней не было нужды.
Отчасти она мирила меня с кровавой русской историей последнего столетия, культом личности, ГПУ и ГУЛАГом, где безвестно сгинул мой прадедушка. «Такие Кати стояли в заградотрядах, были вертухаями, особистами, стукачами и поныне безотчетно тоскуют по „сильной руке". Нелепо обвинять во всех грехах необразованного коротышку, который даже на сайте знакомств не имел бы успеха», – думала я, встречаясь с ее хищным бегающим взглядом.
Когда отгрохотало время исторических откровений и Шаламов, Аксенов, Солженицын, Распутин были широко известны, напечатаны, переведены и за вседозволенностью вышли из моды, я добралась до родительского самиздата. Впечатлительная девочка, я читала в пятом классе Солженицына и плакала перед сном: словно я была виновата перед его героями в своем беззаботном детстве. И по ночам мне снились обозы, бесконечные обозы, протянувшиеся по пыльным дорогам, я бежала за ними и видела только свои босые ноги...
Тридцатые годы оживали в генной памяти до навязчивых бытовых мелочей – гуталина в круглых коробочках, часов-ходиков, пресс-папье на столешнице, перетянутой зеленым сукном, зачехленных кресел, помазка и лезвия опасной бритвы в несессере прадедушки, сгинувшем в лагерях. Катя разбудила дремавшую во мне классовую ненависть, кастовую брезгливость и родовое чувство превосходства. Словно она была всем грубым, насильственным, облаченным в кожу и с наганом на перевес, моим детским олицетворением зла.