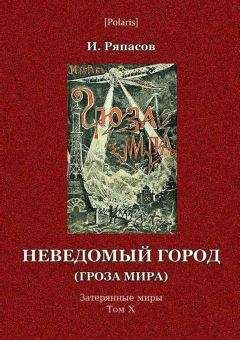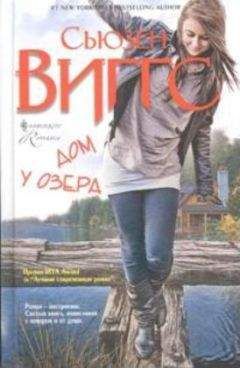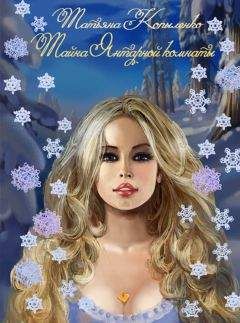Аманда не выдержала и заплакала в голос.
А Морис, этот дурак, идиот, гаитянец Морис, вместо того чтобы бросить свои дурацкие стакан и миску, в которые он вцепился как в бог знает какие сокровища, вместо того, чтобы бросить их в пыль, на дорогу и обнять девушку, медленно повернулся, и пошел обратно.
Когда он почти скрылся из виду, Аманда наконец нашла в себе силы прокричать:
— Спасибо, спасибо! Простите меня!
Но ее уже не услышали.
Путь домой, долгий, одинокий, трудный путь, наконец закончился.
Традиционное прощание с очередной кандидатурой. Но кто виной на этот раз? Аманда долго, долго, долго вглядывалась в замкнутое лицо смуглого очкарика. Так это ты целовал меня? Ты? Почему ты не начал с этого? Я бы не дала тебе убежать. Она поцеловала фотографию.
Это было все, что ей оставалось от Мориса. От Мориса Субиза, гаитянца, который так и не стал женихом американской девушки.
Большой и вечной американской дуры.
Самая большая дурость, объясняла себе Аманда, деловым шагом направляясь к месту надежд, ставшему эшафотом длиной в неделю, это даже не то, что мне так и не увидеть счастья, а то, что, скорее всего, придется либо остаться старой девой, либо отдать себя первому попавшемуся придурку. О том, что бывает счастье замужества или материнства, или хотя бы просто мужского плеча, в которое можно уткнуться, пусть иногда, думать было совсем невыносимо. Но думалось — вопреки всякой логике, боли и чувствам.
Может быть, поэтому Аманда каким-то внутренним органом ощутила необычные вибрации в голове ее сегодняшнего помощника по лагерю — алжирца Эрвинна. До этого дня ей как-то было не до него, да и не очень доверяла она этим метисам. Но бледнолицые не оправдали надежд. Эрвинн же сегодня показался очень приятным мужчиной. И усердным подчиненным.
Аманде вновь захотелось попытать себя в роли шеф-повара. Эрвинн считал себя чрезвычайно сведущим в гастрономических делах и действительно разбирался в тонкостях ароматов и специй, пожалуй, получше Шарля. Почуяв интерес к себе, он охотно распустил все свои павлиньи перья, и готовка обеда перешла в такую увлекательную беседу, что Аманда в первый раз искренне пожалела, что этим нельзя было заниматься вечно.
К концу работы Аманде уже нравилось в Эрвинне все: и слегка гортанный голос, и своеобразная сноровистость движений, и даже то, что он как-то незаметно начал управлять разговором и работой. Ей оставалось лишь спрашивать, поддакивать и подчиняться. И это оказалось так приятно, что, когда алжирец как бы случайно взял ее за руку, Аманда не отшатнулась.
Эрвинн, впрочем, тут же выпустил девичью руку с прекрасно ухоженными ногтями, бархатной кожей и тонкими золотыми браслетами, но Аманда почувствовала всем, что было в ней женского, что ее руки произвели должное впечатление. Она была бы не против, если бы их поцеловали. Но Эрвинн не торопился проявлять дальнейшую инициативу.
Он сыграл на гонге какую-то мелодию с затейливым ритмом и пригласил народ к обеду с радушием владыки несметных сокровищ.
Обед хвалили все, даже ревниво относившийся к чужой готовке гурман Шарль. Эрвинн принимал хвалы с непроницаемым лицом, и только в глазах его, которые он то и дело переводил на Аманду, светилась понимающая улыбка. И она невольно улыбалась ему в ответ, сидя на своем обычном месте, на котором так и лежал плед — свидетельство бессмысленной заботы другого, неудачливого ухажера. Неуклюжая американская девица не сумела оценить саму эту заботу, хотя проявление ее — плед, не убрала. Было весьма уютно сидеть в своем уголке и обмениваться взглядами со смуглым алжирцем.
Зачем она это делала, Аманда не задумывалась. После всех бесполезных мыслей и мук она была уже готова жить минутой, просто плыть по течению — куда кривая вывезет. Сейчас ей было очень хорошо. Она чувствовала, как взгляд Эрвинна обволакивает ее теплым туманом, а о том, что скрывалось в этом тумане, не хотелось и думать. Наконец она спохватилась — подступали сумерки. Эрвинн продолжал свои кухонные занятия: завтра был последний день работ, ожидался праздничный ужин и последний Дежурный, француз Пьер, уже жалобно воздевал руки к небу, умоляя Эрвинна о помощи. Тот усмехался и охотно обещал поддержку — не переставая ласково поглядывать на Аманду.
Чего он ждал? Аманда вдруг встревожилась. Решительно встала, попрощалась и почти побежала к дороге.
Не успела она отойти от лагеря и сотни метров, как услышала быстрые шаги. Она не сомневалась — это Эрвинн. И на самом деле это был он. Аманда остановилась, повернулась к нему и молча ждала его приближения.
— Уже темно, — запыхавшись, пробормотал Эрвинн. — Я не мог позволить тебе возвращаться одной.
Он подошел к ней, мягко и решительно взял за руку. Она ждала продолжения. Но продолжения не последовало: Эрвинн пошел рядом с ней, не выпуская руки и не выказывая каких-либо ясных намерений. Не зная, как себя вести, Аманда ограничивалась светским разговором. Время от времени она потихоньку тянула руку, алжирец крепко ее сжимал.
Путешествие становилось занятным. Уж не собирается ли он проводить меня до дома? Тогда мне не вырваться. Аманда сама не знала, пугает или привлекает ее такая перспектива. В сгущающихся сумерках шагающий рядом Эрвинн казался все более и более привлекательным, а его крепкая, твердая рука представлялась все более надежной.
А шаги между тем становились все медленней.
— Что ж, завтра — последний день… — проговорила Аманда. — Тебе тут понравилось?
— Очень! — с энтузиазмом откликнулся Эрвинн. — Я не хочу уезжать!
А что тебе особенно понравилось? — хотелось спросить Аманде. Но она так боялась ответа, что поспешила перевести разговор.
— Но уехать все равно придется… А что ты будешь делать, когда вернешься на родину?
— Вспоминать тебя, — был короткий ответ.
Аманда вздрогнула. Эрвинн уверенно обнял ее. От поцелуя она увернулась. Ей нужен был другой ответ. Какой — она и сама не знала.
«Вернуться вместе с тобой. Остаться рядом с тобой». Возможны варианты. Но этот…
— Это великодушно с твоей стороны. — Ее ответ прозвучал не в меру холодно.
Эрвинн отстранился.
— Я… тебя обидел? Прости. Я не хотел.
Но Аманда уже закусила удила.
— А чего ты хотел? Засунуть меня в кусты? Сделать мне ребенка и помахать ручкой? На это способен любой самец!
Она сама не соображала, что говорит, понимала, что наносит оскорбление, которого может не стерпеть темпераментный и гордый мужчина, что, может быть, он ее тут же изнасилует или убьет, но не могла остановиться. Вся горечь, накопленная за дни неудач, вылилась в страстный монолог, из которого бедный алжирец едва ли понял хотя бы треть.