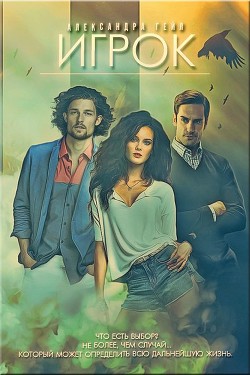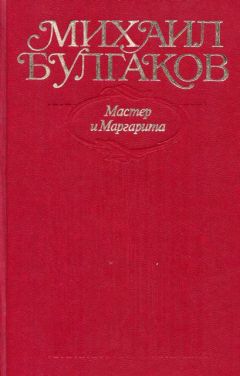Я верю в судьбу и теорию относительности. И суть ее в том, что ты творец всему. Каждый твой поступок запускает целую вереницу событий. А это значит, что есть всегда как минимум два варианта твоего будущего: орел — я войду в операционную и храбро загляну внутрь девочки, которая доверила посторонним людям самое ценное, что у нее есть — свою жизнь; и решка — откажусь от операции.
ГЛАВА 1 — Орел. Наказанная
— Красивая женщина. А чем она занимается?
— Да так… По торговой части.
— Чем же она торгует?
Из к/ф «Красотка»
Жен
Мне выпадает орел.
Когда я вхожу в операционную, бригада уже полностью готова. Осталась я одна. Мне на руки надевают перчатки, помогают завязать тесемки хирургического платья… а я не могу оторвать глаз от девочки на столе. Я должна ее разрезать. Горский даже скальпель протягивает, и в любой другой ситуации не грех было бы запрыгать от счастья, но сейчас даже прикоснуться к инструменту страшно. Я чувствую, что стану кромсать… саму себя. А вдруг у меня дрогнет рука? Или я заражу ее своими проблемами? Нет конечно, я не заразна, просто фаталистка.
— Доктор Елисеева? — удостоверяется в моей готовности кардиолог.
— Удачи нам всем, доктор Горский, — отвечаю.
— Ей удача понадобится куда больше. Начинаем.
Забор тканей сердца уже произвели, и в заполненном льдом лотке лежит частичка свиного сердца, которая вскоре перекочует в грудь девочки. Обыкновенная процедура, недостаток которой лишь в том, что через несколько лет пациентке понадобится еще как минимум одна операция. А, значит, у нее тоже будет своя дата, до которой идет отсчет. Моя, например, — двадцать третье марта.
Я заношу скальпель и делаю первый надрез. Кровь так и рвется в образовавшийся проем, будто не могла дождаться момента освобождения. Но черта с два сбежит — мстительно стираем бинтами. И так везде и всегда. Бьешься за права, точку зрения отстаиваешь, а затем находится пакостный доктор, который корректирует твои попытки на удобный ему манер. Горский, например, уже берется за пилу. Совсем чуть-чуть, и мы увидим сердце девочки. Я этого и хочу, и не хочу. Потому что оно слабое и больное, но несравнимо более здоровое, чем мое собственное. Есть что-то жуткое в том, что настолько сильный и жизнеспособный орган может отказать в любой момент. А что после? Реанимация? Отказ от реанимации?
— Она не подписывала отказ от реанимации? — спрашиваю.
— Доктор Елисеева… — Горский смотрит на меня так, будто я с Луны свалилась… — Я бы объявил, если бы подписала.
Интересно, а мне решимости хватит? В день восемнадцатилетия я взяла комплект документов на отказ от искусственного поддержания жизнеобеспечения, но он так и остался лежать на полке, в синей папке, между анатомическим атласом и пособием по хирургическим швам. Мама бы пришла в ужас, если бы узнала об этих бумагах, но в медицинские учебники ее нос не суется никогда. Святое ей трогать не разрешаю. Пусть лучше кондомы в моей спальне пересчитывает, если угодно, только не алтарь… На самом деле перепрятывать от нее компромат бывает забавно, но совсем не весело, когда таковой все-таки находится. Например, если она найдет бумаги на отказ от реанимации, уверена, не посмотрит на мой возраст и гражданские права, уничтожит документы, а потом возьмется за ремень.
Только дело в том, что при по-настоящему хреновых картах сколько ни блефуй, факт остается фактом. Ни одна из моих операций не проходила без осложнений, и без реанимационных мер шансы выжить нулевые. Просто… у меня было двадцать шесть лет, чтобы смириться с мыслью о том, что на тот свет я отправлюсь не так, как хочу. И почему бы просто не выбрать момент, не прекратить воевать с ветряными мельницами? Достаточно поставить закорючку в графе подписи. А потом перестать грызть ногти и бояться. Только мама этого не поймет.
Распиливая ребра, доктор Горский мурлычет незамысловатую песенку. Говорят, когда делаешь что-то слишком часто, мозг перестает фиксироваться на деталях, и пока ты на автомате совершаешь знакомую последовательность действий, можешь заниматься совершенно посторонними вещами. Я, например, зачем-то пытаюсь на слух определить музыкальные интервалы между звуком пилы и его голосом. Интересно, в операционной хоть кто-то думает о пациентке? Разумеется, я уже помогала кардиологам, но сегодня все в разы сложнее, и когда я пытаюсь соотнести происходящее с личностью девочки, которую успокаивала вчера, что-то замыкает и переключается на меня саму. Будто это меня оперируют.
Мне стоило отказаться от операции. Горский вовсе не обязан следить за тем, чтобы все его подчиненные были в состоянии делать свою работу. А моя адекватность под огромным вопросом. И у нас не оркестр, где неверно взятая нота грозит всего лишь ядовитой обзорной статьей в критическом журнале.
— Вам нравится? — внезапно спрашивает Горский, улыбаясь мне. На это указывают морщинки вокруг глаз. Под маской движения губ не видно, но и без них не составляет труда догадаться о настроении человека. Это я выяснила в тот день, когда еще в студенческие годы вынуждена была стоять в морге напротив парня, отношения с которым были болезненно оборваны не более двенадцати часов назад. Итог: больше я с коллегами не сплю, кем бы они ни были.
— Что?
— Вы передвигаете отсос в такт мелодии. Подпевайте.
Какого черта?
— Слова незнакомые, — отвечаю. Я не вру, все что он проговаривает кажется мне сущей бессмыслицей. Нет, однажды мой наставник-нейрохирург заставил меня исполнить «Аве Мария» за право подержать отсос, но чтобы добровольно…
— Предложите что-нибудь другое. Ну же, смелее. Уверен, вы отлично поете. Вы же все делаете отлично.
— Я слишком переживаю за пациентку… — признаюсь.
— Елисеева, это очень полезно: уметь делать несколько дел сразу. Развивает нейроны мозга, вы пробовали писать текст двумя руками одновременно? А разный текст?
Он стоит и просто разговаривает со мной, в то время как на столе нас дожидается пациентка. Зачем мы разговариваем о каких-то глупых песнях? Неужели только мне хочется поскорее закончить операцию? Чтобы объявили, что у нас все хорошо… в смысле у нее все хорошо. Конечно, у нее. У девочки.
— Пожалуйста, давайте ее просто прооперируем, — не выдерживаю.
И, кажется, Горский наконец начинает понимать, что его ординатор на взводе, что сегодня я не в состоянии оценить ни шутки, ни насмешки. Есть такие моменты, когда ты просто не можешь признать во всеуслышание, насколько плохи твои дела. «Все в порядке» — очень страшные слова, за ними может крыться что угодно. От облегчения из-за пережитой катастрофы до окончания ремиссии.
— Хорошо. Давайте закончим с девочкой, а потом, доктор Елисеева, обсудим, что у вас случилось.
Но в этот момент случается нечто совершенно иное — вверх устремляется фонтан крови.
— Дьявол! — восклицает Горский.