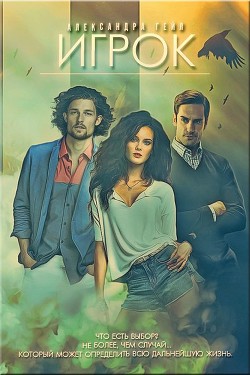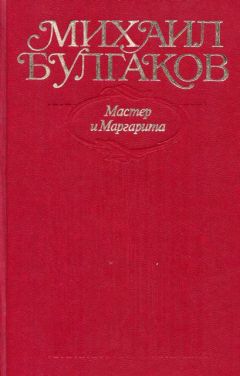Я никогда прежде не видела расслоение аорты, только слова знакомые… по учебнику и собственной медкарте. Пятипроцентный шанс выжить. Сказали, что я счастливица. Когда это случилось, я была на операционном столе, немного кому везет настолько. Никакого счастья в том, что твое тело разрывается от напора крови нет! Это вранье! Я попала в пять процентов счастливых от пяти процентов смертельно несчастных. И вам не удастся это заявление опровергнуть. Вот ведь удача-то, а?
Это я все испортила? Что я сделала? Что мы сделали? Кто виноват? Неужели мое присутствие и впрямь оказалось критичным? А если нет, то почему у девочки те же осложнения, что были когда-то у меня?
Опускаю взгляд на операционное платье. Оно покрыто кровью.
— Зажимаем, Елисеева!
Горский давит на мою кисть, заставляя усилить нажим. Сам хватается за инструменты. Но вместо этого внезапно выясняется, что мое прикосновение и впрямь разрушительно.
— Сердце встало! — кричит медсестра.
Горский больше не поет. Теперь в его глазах поселился страх.
— Электроды! — хрипло, но громко командует он. — Еще отсос!
И я, раз за разом повторяю себе, что это не я, что реанимация возможна, сую алчную трубку в дыру в груди пациентки и понимаю, но она уже не справляется. Кровопотеря слишком серьезна. Но мы же делаем все возможное. Почему такое случилось? Неужели нельзя было предугадать исход операции уже по виду мышцы?
— Убрать руки! — отдергиваю трубку. Разряд, новый разряд…
Доктор Горский отбрасывает электроды и приступает к массажу сердца, но ничего не происходит. Идут минуты. Сокращения прекратились слишком давно, и кровь, поступающая в тело выливается, снова и снова оседая на наших одеждах.
— Сколько? — спрашивает доктор Горский.
— Двадцать минут, — убито отвечает медсестра, а другая уже готовится убирать капельницу с кровью.
Страшная правда в том, что сердце девочки просто решило прихорошиться для снимков, словно капризная барышня, которая желает выглядеть на фото лучше подружек. И познакомившись посредством эхокардиограммы и МРТ с красоткой, хирург пришел на свидание совсем к другой особе…
Я с ужасом смотрю в лицо девочке, которая всего несколько минут назад казалась более удачливой, чем я. Даже не пытаюсь отвести глаз, она мертва, мы ее убили.
— Доктор Елисеева, назовите время смерти, — велит мне Горский. И я чувствую, что это наказание за то, что солгала ему, что не признала свою недееспособность, не рассказала о том, что эта пациентка — слишком личное. Связи с пациентами совершенно недопустимы, даже если возникают вот так странно и внезапно.
Я должна назвать время ее смерти. Но зачем, если сердце уже не бьется? На самом деле наша смерть никак не зависит от цифр, они нужны исключительно живым. Чтобы сказать в какой момент мы сдались, чтобы откупиться словами «было сделано все возможное» и чтобы нам поверили. Будто пятнадцать двадцать шесть — новый синоним окончательности. О нет, ничего не закончилось, и я не стану подыгрывать!
Кажется, я вошла в операционную, все сделала правильно, и никто не виноват, но когда речь идет о ребенке слов «все возможное» недостаточно. Нельзя сказать, что сделал все возможное, когда у тебя на столе лежит пятнадцатилетняя девочка, кровотечение которой ты не смог остановить.
Мне стоило признаться, что я не могу сегодня оперировать кардиопациентов, а, возможно, никогда вообще. Только это означало бы отказ от карьеры хирурга, а я слишком самонадеянна и горда. Результат не заставил себя ждать… Мое сердце сейчас тоже встанет. От ужаса.
— Доктор Елисеева… — намного мягче обращается ко мне Горский. Человек он просто потрясающий. Сильный, но не жесткий. Я бы хотела стать такой же… — Жен… — тихо добавляет он, догадываясь, что случилось нечто из ряда вон.
Вскидываю на него глаза, а затем отсос и зажим, которые у меня в руках, летят на пол, и я плечом с размаху влетаю в дверь операционной, выскакиваю в коридор, даже не сняв окровавленные одежды. Бегу по лестнице, сил ждать лифтов нет. Я не могу там оставаться! Сердце колотится как бешеное, но крововотока мне никогда не хватало, и посреди лестницы я падаю на колени, чтобы отдышаться. А потом бегу, бегу, чтобы не догнали!
На этаже, где находятся раздевалки для ординаторов полно народу, а мои одежды все в крови. И все, что я могу слышать — крики людей. Они бросаются врассыпную. И верно, если даже врачи несутся прочь так, словно за ними гонится сама смерть, то чего ждать от людей, которые к крови непривычны?
— Что происходит?! — шепчутся ординаторы, когда я пробегаю мимо, залетаю в душ и прямо в одежде встаю под струи воды. Я задыхаюсь. Вода ласкает мое лицо и губы, она смывает и успокаивает. Проясняет. И медленно, очень медленно и постепенно я начинаю понимать, насколько безумным был мой поступок.
За пренебрежение больничными правилами меня могут исключить из ординатуры. Я всю свою жизнь мечтала стать нейрохирургом, старалась не ошибаться, не оступаться. А тут совершила маленькое самоубийство. И ради чего? Неужели хотела, чтобы меня исключили? Думала доказать себе и всему миру, что мне плевать на то, сколько лет, недель или дней осталось? А еще на собственное сердце и самые дорогие ему вещи? Доказала. Молодец.
И теперь я спешу. Спешу сбежать, укрыться от возмездия за содеянное. Кажется, удается. Незнакомцы из больничного коридора, к счастью, меня не узнают. В шоковом состоянии человек не замечает деталей, мы помним не лицо стрелка, а только дуло пистолета, и не девушку в окровавленных одеждах, а окровавленные одежды на девушке. Однако, конвоир-обличитель уже дожидается у дверей. Наш главврач. Павла Юрьевна Мельцаева. Женщина с глупым, властным именем, которая невзлюбила меня с самого появления. Раньше я этого не боялась, потому что не давала поводов для претензий, но сегодня компенсировала недостачу с лихвой. Ее не проведешь, она уже все знает и настроена решительно.
— Доктор Елисеева, объясните мне, по какой такой причине семьи пациентов сообщают мне, что ординатор бегает по больнице, запачканный кровью с головы до ног?
— Прошу прощения, это больше не повторится.
— И все? Это все, что вы можете мне сказать? — Ее выщипанные в ниточку брови переползают аж на середину лба.
— Нет… — Я должна признаться, объясниться, но язык буквально присыхает к небу. Я не могу сказать следующие слова. Я ненавижу признаваться в том, что больна. К инвалидам отношение особенное. Неважно, насколько заразна болезнь, она точно эпидемия — охватывает даже окружающих. Налагает ограничения и на них тоже. Нам положено уступать место в автобусах и право преимущественного пользования услугами банков, касс и прочих бюрократических инстанций. О нет, инвалидов не любят. И мне всегда было проще прикинуться здоровой, нежели обходить очереди, чувствуя сверло из взглядов промеж лопаток.
— Мне так и придется каждое слово из тебя вытягивать?! — Она в бешенстве, хоть и скрывает, а потом, дабы успокоиться, переходит на «вы», и отчего-то это только больше пугает. — Доктор. Елисеева. Вы проявили неуважение, в том числе к родителям девочки, которые благодаря вашему феерическому кроссу наций сразу узнали о том, что их дочь умерла от кровопотери на операционном столе! — Шок от ее слов начинает выливаться из моих глаз вместе со сверкающими слезинками, но это только больше распаляет Мельцаеву. — А теперь назовите хоть одну причину, по которой я не должна вас уволить за вопиющий непрофессионализм?