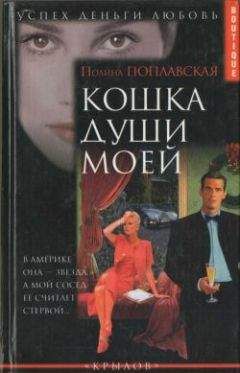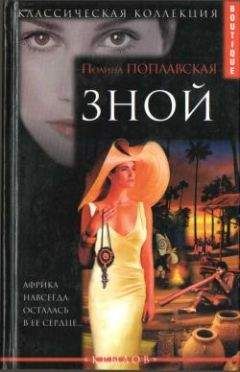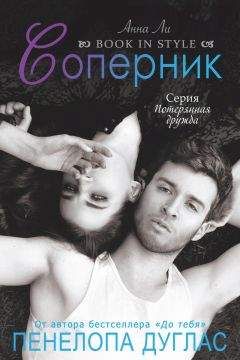А светловолосая девочка удивленно таращила на мир свои голубые глазенки.
Еще лежа на высоком родильном столе, Пат ощутила ни с чем не сравнимое чувство полного освобождения; она казалась себе пузырьком в бокале шампанского, легким, бездумным, пьянящим. И теперь в по-старинному просторной палате с высоким сводчатым потолком это чувство не покидало ее, хотя и смешалось с другим, смутным и необъяснимым – у нее была дочь.
Все эти страшные месяцы Пат хваталась за мысль о сыне, как за последний спасительный якорь. Она лелеяла и нежила эту мечту, в глубине души считая ее последним оправданием своей жизни. Сын, мальчик со средневековой картины, воплощение если не духа, то хотя бы плоти, надежда, зеркало души… Пат еще раз с надеждой заглянула в стоящий рядом кювез – нет, в сморщенном личике не было ни тени жаркой смуглости отца, даже волосы у малышки были рыжеватыми. И, словно в ответ на пристальный настороженный взгляд матери, она завозилась и жалобно раскрыла ротик. «Наверное, ее надо покормить», – испугалась Пат и стала вынимать грудь, отрывая от соска пропитанную молоком присохшую ткань. С каким-то недоумением она смотрела на огромный коричневый сосок и крошечный рот, не представляя, как они смогут соединиться. Девочка пронзительно закричала. Пат со страхом поднесла ее к груди, и когда ребенок каким-то неуловимым быстрым движением схватил ее, по телу молодой женщины неожиданно пробежала острая судорога наслаждения. «Мэт… Мэт…» – стучало у нее в висках, туманя сознание.
В этот момент дверь распахнулась, и вошел Стив, которого разбудило неугомонное майское солнце, за несколько часов превратившее машину в настоящую душегубку. Потирая одной рукой отросшую за ночь щетину, а другой – придерживая полы изумрудного халата с драконами, он смущенно улыбался, видимо не зная, что делать дальше.
– Стив, милый… – только и могла произнести Пат. Но он уже быстро направлялся к ней.
– Ты задушишь девчонку, глупенькая! – И Стив уверенным движением переложил ребенка, прижав пальцем край соска, который совершенно закрывал маленький носик. – Вот так и держи.
Пат с удивлением вскинула на него ввалившиеся блестящие глаза.
– Откуда ты…
– Мне тридцать три года, дорогая, чему же тут удивляться? Ты замечательно выглядишь и бэби тоже. – Стив втайне был очень рад тому, что родилась именно девочка: она меньше будет напоминать Пат о Мэтью, и ему самому с девочкой гораздо проще. – Я говорил с врачом, вас выпишут через пару дней, но мне завтра же нужно быть на студии. Я и так непозволительно транжирил время. Ты же месяц-полтора побудешь пока в Уэсте, прислугу я нанял. Мне необходимо приготовить дом, а тебе… Тебе привыкнуть к малышке и своим новым ощущениям. Лучше, если ты сделаешь это одна. И потихоньку возвращайся к мыслям о работе. Твоих родителей, я думаю, стоит поставить в известность уже из Трентона. Все будет хорошо, Пат. Я позвоню тебе, когда надо будет выезжать. – И, слегка прикоснувшись губами к красному личику, Стив ушел.
От глубокой обиды у Пат перехватило дыхание. И это все, что он мог ей сказать!? Ни благодарности, ни восторгов… С какой негой целовал бы сейчас ее грудь Мэт! С какой горькой нежностью смотрел бы на дочь!.. «Нет, – вдруг произнес где-то внутри нее холодный сухой голос рассудка, – Мэт мог бы и вовсе не появиться здесь. Он перебирал бы гитарные струны, ревниво охраняя свой мир от любого вторжения. Он хотел тебя, но не ребенка…» Тогда-то на лице Пат и появилось выражение легкой отстраненности, которое в дальнейшем так привлекало к ней людей и в то же время почти не позволяло надеяться на настоящее сближение с нею.
И на виллу в Ки Уэсте вернулась уже совсем другая женщина. Пат за две недели сумела так вышколить двух развязных чернокожих «мамм», что у нее оказалось множество свободного времени для работы. Ей пришла в голову замечательная идея: вещание будущего канала на страны Латинской Америки надо вести параллельно на английском и испанском языках, что значительно расширит аудиторию.
Пат взялась за испанскую музыку, и в доме весь день звучали то призывно-тоскливые, то страстно-гордые испанские напевы.
Правда, и девочка оказалась на удивление спокойной и здоровой. Единственное, что огорчало Пат, было ее странное отношение к ребенку: она не испытывала того восторженного умиления, которого ожидала последние месяцы. Наоборот, ее уже начинало раздражать постоянно подтекавшее из сосков молоко и сами, ставшие еще более тяжелыми груди, которые не давали почувствовать себя, как прежде, телесно легкой и независимой. Да, зависимость – вот что больше всего угнетало ее. Мэту она отдала себя всю, она жаждала полного подчинения, растворения, сладкого рабства – и это оказалось никому не нужным. И теперь, пристально всматриваясь в дочь во время кормления, Пат со страхом ловила себя на мысли о том, что, вероятно, именно эти чувства испытал бы сейчас и Мэт: удивление, отстраненное любопытство и некую угрозу своему внутреннему миру.
Кроме того, ее тело стало тосковать по мужчине. Окончательно созревшее после материнства, оно неумолимо требовало любви, и если днем в короткие промежутки между работой и дочерью, едва прикрыв от усталости глаза, Пат видела перед собой орлиное лицо и гибкое тело Мэта, то ночами – душными, влажными ночами Флориды, словно самой природой созданными для любви – ей грезилось что-то неведомое, властно ее сминающее…
«Надо возвращаться в Трентон», – все чаще повторяла Пат и все тревожней поглядывала на молчащий до сих пор телефон.
Со дня смерти Мэтью прошло уже полгода.
* * *
Стив не торопился, преодолевая ту тысячу миль, что отделяла Майами от Трентона. Для него тоже начиналась новая жизнь. Выросший в семье ирландки и канадца, он всегда и везде на первое место ставил основательность и свободу, или, вернее, свободу и основательность, если учитывать, что первое досталось ему от матери, а второе от отца. Дитя войны, он был равнодушен к комфорту, а если говорить честно, то и к быту вообще. В его огромной холостяцкой квартире в самой привилегированной части города царил смешанный дух эпох биг-бэндов, Поп-фестиваля в Монтерее и – одновременно – прагматизма, захватившего страну после гибели Кеннеди. Он был щедр без расточительства, мужественен без бравады и никогда ничего не обещал. За это его любили и мужчины, и женщины, тем более что к последним он, с детства влюбившийся в прозу великого Хема, был всегда бережно насмешлив и добр.
И вот теперь ему предстояло изменить эту жизнь, впустив туда женщину, к которой он не пылал страстью, и ребенка, который был зачат его другом в предсмертной тоске погибающей молодости. Стив знал, что это никоим образом не помешает его работе и стремительно развивающейся карьере, скорее, наоборот… Но внутренней гармонии и спокойствию?