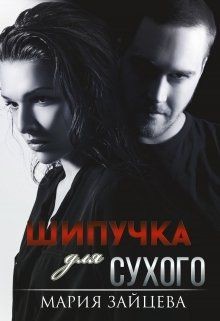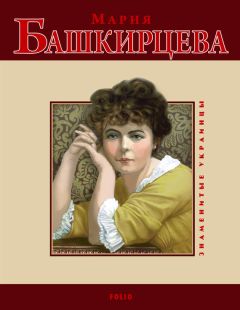Но если можно было не ложиться под нож…
Пусть так. Без разницы.
С тех пор я сменила четыре спирали, болезнь ушла, гормональный фон восстановился.
И вот теперь она говорит, что мне надо сделать перерыв.
Да почему? Кому нужно мое женское здоровье?
Но, с другой стороны…
Машка знает, что говорит.
Она за это время прошла путь от интерна до заведующей гинекологии, наелась дерьма в госклиниках по самые гланды, и в итоге ушла к Игнату. И теперь к ней сюда ездит весь цвет Питера.
И я, на правах старой пациентки и подруги.
— Хорошо.
— Ну отлично, сейчас я все подготовлю. А ты посиди пока.
Она выходит в коридор, что-то коротко говорит Олегу, и я слышу его голос:
— Какая, нахер, операция???
И строгий, спокойный голос Машки, предупреждающий о правилах нахождения в медицинском учреждении.
Она Сухого совершенно не боится, в отличие от многих. И он ее за это, кажется, уважает.
После процедуры, которую Машка назвала малым медицинским вмешательством, я опять оказываюсь в той же самой палате, из которой ушла не так давно.
И все те же лица наблюдаю перед собой.
Олега у кровати и Васю в дверях.
— Ольк… Ты как? Больно было?
— Нет, приятно, — не удерживаюсь я, — Олег, тебе самому не надоело, а? У тебя есть дела какие-то, помимо сидения у моей кровати?
— Мне эта стерва так диагноз и не сказала, — жалуется он неожиданно, — Ольк… Если с тобой хоть что-то… Ты же понимаешь, любые врачи, любая клиника. Олька… Ну хватит дурить, ну сколько нам осталось с тобой? Ты меня такими темпами в могилу загонишь скоро. От инфаркта загнусь.
— Да ты здоровый, как лось, Сухой, — качаю я головой, намеренно называя его прежним прозвищем.
Потому что не Троскен, великий и ужасный, со мной сейчас здесь, а мой Олег Сухой. Резкий, порывистый и… Немного растерянный. И, самое главное, не виновный в том, в чем я его подозревала.
Я неожиданно для себя глажу его по щеке. Колючей.
Что ж ты так, герр Троскен, не блюдешь образ правильного немецкого херра?
— Ольк… — он ловит мою ладонь, прижимается губами, — Олька…
Ну вот все время он так.
Олька, Олька… Шипучка… Сколько лет прошло, а горло перехватывает, как в первый раз.
Я смотрю в его глаза и вижу того Олега, что смотрел на меня тогда, на кладбище, где мы встретились и где он впервые назвал меня Шипучкой.
Вижу того Олега, осунувшегося, похудевшего, жесткого, после тюрьмы.
Он тогда приехал ко мне. И ждал возле дверей.
И у меня горло продрало от этого его: «Привет, Шипучка»… И от взгляда.
Неизменного.
Словно он во мне видит что-то такое, чего я не знаю про себя. И тогда видел.
И сейчас.
Я смотрю в его глаза и не могу отнять руку, прекратить это все.
Не могу больше.
26. Примерно пятнадцать лет назад
— Привет, Шипучка.
Голос другой. Более низкий, более хриплый. Словно он постоянно был либо простужен, либо много говорил.
Либо, наоборот.
Молчал.
И отвык разговаривать.
Я разворачиваюсь. Медленно. Кажется, что со скрипом даже, как старая избушка на курьих ножках в сказке Роу.
И впервые понимаю, что значит мгновенное удовольствие. Как это бьет по голове теплой, возмутительно возбуждающей волной.
Потому что смотреть на него, жадно, так жадно ловить прежние черты на сухом, изменившемся лице — это просто наслаждение для глаз. Я не могу остановиться, не могу запретить себе смотреть! Хотя понимаю, что, наверняка, это все неправильно.
И мне не надо, после всего, что было… После всего, что он сделал…
Не надо…
Но сил опустить глаза нет.
Сил отвернуться, просто открыть дверь, просто зайти в квартиру, захлопнув замок перед его лицом, как мне, конечно же, стоит поступить именно сейчас… Нет этих сил.
Я внезапно ощущаю, что не держат ноги. Вот так, в одно мгновение, стали глиняными столбами, бестолковыми и ломкими.
Я прислоняюсь к двери, и смотрю. Смотрю. Смотрю.
Ну, здравствуй, Олег.
Ты изменился. Ты стал суше. И опасней на вид. Скулы — острые. Губы — обветренные. Волосы — короткие. Ты, кажется, выше теперь. Или это так плащ удлиняет фигуру?
Знаешь, Олег, так сейчас никто не ходит. У всех уже давно сгнили в шкафах кожаные длинные плащи.
Как до этого малиновые пиджаки.
Сейчас носят куртки средней длины. И пиджаки от европейских дизайнеров. И отращивают волосы. Немного. И не носят мобильные телефоны на шнурках.
И вообще, мир изменился, Олег.
А ты? Ты изменился?
Наверно, нет. Судя по тому, что стоишь сейчас здесь. Рядом со мной. И смотришь.
А вот взгляд у тебя прежний.
Как тогда, на Смоленском, помнишь?
Ты смотрел на меня так, словно я — самое лучшее, что было в твоей жизни. Сейчас все изменилось.
Уже давно все изменилось.
А твой взгляд по-прежнему буровит мне дыру в сердце.
Мне трудно стоять, Олег. Очень. Ноги дрожат. Так глупо. Недавно я на вызове откачивала старушку. Не откачала. Это была моя вторая смерть, как-то до этого все везло. И, знаешь, тогда ноги не дрожали. Хотя коньяком потом отпаивали меня долго.
А вот тут, рядом с тобой, под твоим взглядом… Дрожат. Не держат.
Что тебе надо, Олег? Что?
Зачем ты пришел?
Уходи.
Мне трудно дышать.
Он делает шаг ко мне, все так же, молча.
Берет ключи из ослабевших пальцев.
И открывает дверь.
А я падаю. Прямо ему в руки. И умираю от мгновенно обрушившегося на меня, такого знакомого, такого острого его запаха. Настолько родного, что скулы сводит от желания немедленно уткнуться в его шею и дышать, дышать, дышать… До боли в груди, до одурения, до головокружения.
Он меня буквально вносит в прихожую.
Я не соображаю ничего. Понимаю только, что руки его скользят по телу, делают больно и так сладко, так нужно, так долгожданно.
Я хочу запротестовать. Я хочу сказать, чтоб он уходил.
И не могу.
Нет голоса. Никакого, вообще. Нет мыслей. Нет осознания.
Только желание есть. Дикое, бешеное, бесконечное.
Дышать им. Трогать его. Смотреть на него.
Олег! Зачем ты пришел? Как мне теперь жить, Олег?
Мы как-то очень быстро перемещаемся в пространстве моей немаленькой квартиры, оказываемся в спальне.
Я чувствую его грубые движения, он пытается содрать с меня платье, рвет его, глухо матерясь. А я держусь за его плечи, не в силах оторвать руки. Потому что, кажется, оторвусь — и все. Он исчезнет. Просто исчезнет, как мираж.
А я проснусь.
А я не хочу просыпаться.
Я хочу его чувствовать, вдыхать, ощущать.
Тяжесть его тела на мне — одновременно мощный отсыл в прошлое и что-то невероятно новое.
Гладкость его кожи под пальцами — огонь, я обжигаюсь, но не прекращаю трогать. Потому что мне надо убедиться, что он — материален. Что он — здесь.
— Олька, — шепчет он, стискивая меня до боли, не рассчитав силу, и мне это так нравится, Господи, я так этого хочу! — Олька… Моя Олька…
Его губы, сухие, обветренные, жесткие. Он не целует, он сжирает меня, выпивает мой поцелуй до дна, до последней капли иссушает.
Он, кажется, тоже одурманен, как и я. Огромные зрачки, затопившие всю радужку, сухое острое лицо, напряжение, ожидание, утыкается в мою шею и тоже дышит, дышит шумно и глубоко.
— Олька… Я подыхал без тебя…
И я. Олег, и я!
Я — просто не жила.
Я — умерла.
Он приподнимается, смотрит опять, а потом наклоняется и целует. Одновременно делая резкий рывок.
В меня.
И это… Да!!!
Это больно! Так и должно быть, наверно, если не подпускать к себе никого пять лет.
Это шокирующе. Это…
В голове по-прежнему пусто, поэтому я не могу даже осознать, что чувствую.
Просто прижимаюсь, теряя последнее дыхание, обхватываю его ногами, и Олег понимает это правильно. И уносит меня из этой реальности.