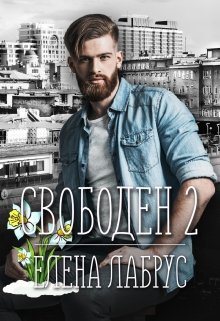с каждым новым прожитым днём мы отплывали бы друг от друга всё дальше и дальше. Снова стали бы ждать. Результатов, удобного случая, места, времени, когда всё уляжется или чего-нибудь ещё. И уже было бы не дотянуться, не коснуться рук. Полынья становилась бы всё шире. Мы друг от друга всё дальше.
— А нам нельзя дальше, и нельзя ждать, — целует он меня в висок. — У нас малыш.
— И всем врагам на зло, мы всё равно женаты.
— В понедельник ещё заберу наши паспорта со штампами и всё. Но у меня есть к тебе одна просьба, — он набирает воздуха в грудь. — Давай пока оставим это в секрете?
— Я не буду врать, — сажусь я.
— Тебе и не придётся. Просто то, что мы всё же расписались, давай оставим пока в тайне. Люди разные. Не все одобрят. Не все поймут. И я могу увезти тебя и спрятать, но ты ведь откажешься.
— Конечно. Но я понимаю о чём ты говоришь. Каждому, кто захочет в нас плюнуть или оскорбить, рот не заткнёшь. Но я не буду прятаться. Мы ни в чём не виноваты.
— Примерно так я и думал. И на работу пойдёшь?
— Конечно!
— Ну, значит, всё идёт по плану.
— Ого! — рассматриваю я его с интересом. — У тебя есть план?
— Ещё какой! — с коварным видом почёсывает он бороду. — Но без твоей помощи я не справлюсь.
— Я согласна, Тём.
— Но это будет связано с некоторыми неудобствами. Нам придётся не только молчать, что мы женаты. Ещё стараться не демонстрировать свои чувства на публике. И, возможно, какое-то время делать вид, что мы живём врозь. Справишься?
— Потерплю, — киваю я. — Нас разлучили. Нам сорвали свадьбу. Нас обвинили в инцесте. Нас заставили усомниться во всём. Никому не позволено делать это безнаказанно.
— А если всё это правда? С тестами ДНК? — хмурится он.
— Значит, мы уедем и будем растить наших детей там, где нас никто не знает. И пройдём все обследования. И сразу скажем им всю правду, когда они подрастут. Будем строить свою жизнь так, как уже сложится. Если всё действительно правда.
— Да, если никто не виноват, значит, никто и не пострадает, — усмехается он. — Но, чем дольше я думаю об этом, тем сильнее уверен, что всё это подстроено.
— И я, Тём. Хотя, конечно, как знать, но хочу с тобой кое-чем поделиться. Про своего отца.
И несмотря на то, что после бессонной ночи, мы собирались до вечера проспать, столько всего нужно сказать друг другу, что мы всё говорим, и говорим, и говорим. Про тесты, про отца, про мамины сомнения, про мои посиделки с Эллой, про мальчишник…
Он и правда, словно вернулся с войны. Ведь мы не виделись с самого мальчишника! И словно не ели с позавчерашнего дня.
— Я не могу рассказать тебе всё. Пока. В рамках нашего плана, — протягивает он мне кусок торта, который мы едим, сидя на кровати. — Но буду держать в курсе по мере необходимости.
— А куда ты ездил с утра с Захаром, скажешь? — отказываюсь я.
— А ты откуда знаешь, что я виделся с Захаром? — удивлённо взлетают его брови, хотя засунуть торт в свой рот ему это не мешает. — Ты за мной следишь?
— А как же, — улыбаюсь я, смахивая с его бороды крошки. — За тобой глаз да глаз.
— Нет, правда, Лан? — жуёт он.
— Я первая спросила.
— Он позвонил и сказал, что нужно встретиться. Это важно.
— И это, правда, было важно?
— Очень, — засовывает он мне в рот колбасу, раз от сладкого я отказалась. — Он видел встречу твоего отца с моей матерью.
— И? — напряжённо жую я.
— И она его не узнала.
— Тридцать с лишним лет прошло, Тём. Тем более она вычеркнула те события из памяти. Порой это действительно удаётся сделать, особенно когда события такие травмирующие. Ты только не подумай, что я её оправдываю.
— Наоборот, продолжай, продолжай, — отламывает он ещё кусок торта. — Сейчас важны все аргументы, и «за» и «против». Твоя мама сказала, что он не стал бы проявлять силу. А она с ним сколько лет прожила?
— Лет десять промучилась, — выбираю я подсохший сыр из «праздничной» нарезки.
— Значит, знает его лучше всех. А меня знаешь, что насторожило? Его тонкая курточка и ботиночки. В январе.
— А ты где это слышал?
— Захар догадался включить диктофон, уже когда вы сидели за столом. Переслать тебе? — отгладывается он в поисках телефона.
— О, нет! — поднимаю я руки. — Не сейчас. Так и что не так с курточкой?
— Ты представляешь кого-нибудь, кто бы ходил так у нас? Своего отца? Да любого мужика. Зимой. В то время. Он же местный? А мы не в Африке живём. Это сейчас мы из машины в офис. Из офиса в тёплую машину. А тридцать лет назад даже в «Жигули» или «Москвич» без тулупчика в январе не сядешь. Да и о тех «Жигулях» большинству можно было только мечтать. Шапка норковая, ушанка. Перчатки меховые. В курточках тонких ни у вас, ни у нас не ходили. Только в южных регионах. Возражения есть?
— Можно поспорить, — улыбаюсь я, теперь вытирая с его губы крем. — А что слышал Захар?
— Слово в слово то, что мать потом и повторила. Кроме курточки. Про крещенские морозы. Про блокаду. Про деда, который расчувствовался и достал старые фотографии. Только всё это говорил ей он.
— То есть пока он не начал всё это ей рассказывать, она его не узнала?
— Нет. Но поверила она ему, только когда он сказал: а помнишь, как ты… и дальше там было что-то скабрёзное, вроде «пищала» или «визжала», или «стонала». Вот это уже услышал я, хоть и не разобрал. А потом он мне сунул в лицо эти бумажки. И так грязно высказался о тебе, что меня просто переклинило.
— Обо мне?! Поди шлюхой назвал?
— Вот не хотел бы повторять, — опускает он голову, давая понять, что я это не услышу. — Но, кажется, был намёк на ваши отношения с Бережным. Я не стал разбираться.
— С Бережным?! Чёрт, как же я забыла! — ударяю я себя по лбу. — Отец же у него как-то денег просил. Уж не знаю, чем мотивировал, Бережной тоже не распространялся. Но приехал злой, сказал буквально два слова, что приходил мой папаша, просил денег и он его, конечно, послал.
— Думаешь, твой Бережной тоже в этом замешан? — собирает он последние крошки. И, поставив тарелку на поднос, в два глотка допивает чай.
— Даже не знаю, — встаю я, чтобы унести грязную посуду. — Очень сильно сомневаюсь. Но,