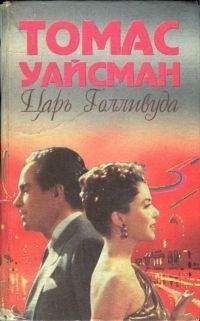— Что я, по-твоему, должен сделать? — спросил он неистово, так и не понизив голоса, чем навлек на себя протестующий взгляд Леушки. — Ты думаешь, за ночь можно стать Рокфеллером? Это не так просто, могу тебя заверить. Могу тебя заверить, это не так просто.
— Я знаю, — сказала она успокаивающе. — Знаю. Я не виню тебя.
— Тебе ведомо, что ребенок для меня, бесспорно, на первом месте. Самое главное, Леушка, это ребенок.
— Я знаю, знаю, Оскар. Не расстраивайся так.
Гнев Оскара внезапно утих, и это было характерно для него. Он улыбнулся и, потянувшись через стол, погладил жену по щеке.
— Иногда я вспоминаю, что ты ведь совсем еще девочка. Я становлюсь стар, Леушка. Этой осенью мне будет пятьдесят.
У нее были черные, гладко зачесанные за уши волосы, большие, горящие темные глаза, полные губы, крупный нос — черты ее лица были смелы и благородно пропорциональны, так же как и фигура: полная грудь, плотные бедра, округлый живот. Она была не толстой, а лишь пышнотелой, но принадлежала, увы, к тому типу женщин, которые в конце концов не способен избежать полноты. Ее вряд ли можно было назвать хорошенькой — для этого она была недостаточно хрупким созданием, — но иногда она была почти прекрасна. Оскар хоть и слегка иронично, но часто называл ее мадонной: мадонна, ты собралась? Закончила ли мадонна прихорашиваться? Помнит ли наша мадонна, что вечно забывает ключ? Закончит ли мадонна баловать ребенка?
Хотя он произносил эти фразы шутливо, можно было видеть, почему он готов повторять их вновь и вновь: Леушка была из тех женщин, что без ребенка на руках выглядят как-то незавершенно.
— Скажи лучше, как идут твои дела? — спросила она.
— Леушка, ты видишь, я устал как собака, — он провел рукой по щекам. — Мне надо побриться, мне ведь нужно бриться два раза в день… Леушка, у меня нет денег, я потерял деньги, потерял деньги. Я потерял кучу денег, Леушка.
Ее черные глаза были скорее нежны, чем удивлены или разгневаны; она еще раньше сердцем почуяла неладное. Оскар вообще не мог сказать ей ничего такого, что действительно возмутило бы ее, после того, что случилось в Вене.
— Много ты потерял?
— Кучу денег, Леушка, кучу. Почти тысячу долларов. Я знаю, знаю, ты ничего не скажешь мне, не будешь обвинять даже глазами, но ведь тысяча долларов… имея тысячу долларов, мы могли бы снять хорошую квартиру в Томпкинс-сквэе, мы бы уехали отсюда. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Пойти лечь прямо под поезд? Все казалось так надежно, мы от одной этой сделки могли бы встать на ноги…
— Какой сделки, Оскар?
— Лучше умолчу об этом, что теперь говорить… — он глубоко вздохнул. — Мне, кажется, просто не везло все эти дни, Леушка.
Она безмолвно смотрела на него, печалясь его печали, не способная его укорять в то время, когда он так переполнен угрызениями совести и сожалениями. Ее это даже тревожило: он всегда склонен был скорее обвинять кого-то, чем укорять себя после того, как терпел одну из своих неудач; да ей казалось и бессмысленно и жестоко к тому же напоминать ему, что она заранее предостерегала его от этого. Но когда она предупреждала его о какой-нибудь нависшей над ним опасности, он часто пренебрежительно обрывал ее на полуслове. Что она понимает в бизнесе? Почему бы ей не помолчать о тех делах, в которых она не разбирается? Не рискуя, человек никогда ничего не получит. Он ведь сделал однажды в Вене кучу денег. Разве она забыла, что они жили тогда на первом этаже в престижном районе? Разве они не имели в опере личную ложу? И ведь они ездили в фиакре! Раз он однажды сделал большие деньги, значит, может сделать их и опять.
— Что нам теперь делать, Оскарче? — спросила она нежно.
— Давай напишем семейству, — сказал он. — Мы напишем им, чтобы прислали нам сколько-нибудь денег.
— Как мы объясним им причину?
— Не знаю, Леушка, не знаю. Я разбит. Давай напишем семейству, что… — он старался что-то придумать. — Давай напишем, что ребенок болен, нужна операция… Нет, я знаю, лучше написать, что он болен туберкулезом и нуждается в санаторном лечении. А это ведь дорого. Они знают, что это очень дорого. Дитя умирает, оно нуждается в санаторном лечении. Они должны прислать полторы тысячи долларов сразу, иначе будет слишком поздно.
Оскар повеселел немного, обдумывая свою идею.
— Как ты можешь говорить такие вещи? — упрекнула его Леушка. — Ты не должен даже мысли такой допускать, не то что говорить.
— Знаешь что, Леушка, полторы тысячи долларов дадут мне возможность снова встать на ноги. Я говорю тебе, у меня появилось доброе предчувствие. Я запросто могу сделать сейчас состояние. Это ведь Америка, здесь возможности на каждом шагу. Это страна, где все возможно. Добрые предчувствия, Леушка, они возникли неожиданно… Может, ты постелешь ребенку постель? Я так хочу спать, у меня был тяжелый день, я устал как собака.
Вот оно, то, чего, страшась, ожидал Алекс. Это случалось каждый раз, как отец приходил домой. Он приходил и немедленно восстанавливал все свои права, свое право спать в большой кровати, в объятиях его матери, свое право жаловаться и ругаться и потом заглядывать в глаза, ожидая прощения и утешения.
Алекс быстро уполз обратно в постель и попытался заснуть. Его отец, он знал, очень рассердится, если догадается, что Алекс подслушивал под дверью. Когда минуты через две-три Леушка входила в комнату, он симулировал устойчивое дыхание глубокого сна. Она осторожно, подняв одеяло, брала сына на руки, держа очень нежно и ласково, чтобы не разбудить, и он, изо всех сил стараясь выглядеть спящим, уютно прижимался к ее груди, пока она несла его в кухню. И вот она осторожно опускала его в маленькую постель, уже приготовленную ею, подвертывала под него одеяло и целовала на ночь, чего он поджидал заранее. Потом, забрав с собою керосиновую лампу, она уходила к Оскару, который уже был в комнате и расположился теперь на большой кровати.
— Я, действительно, Леушка, устал как собака, — говорил он, не открывая глаз, ибо даже это казалось ему слишком утомительным. — Как ты думаешь, есть ли у меня силы снять туфли, Леушка? — Любовно, с той же нежностью, что она выказывала ребенку, она расшнуровывала его туфли и снимала их. — Ты не забудешь поставить в них распорки? Подошвы-то совсем никудышные. Ты ангел, Леушка. И брюки, Леушка. У меня, кажется, совсем не осталось сил. Снимешь, да? — Она расстегивала ремень, пояс и осторожно стягивала брюки с его ног. — Я женат на ангеле. Ты не забудешь вытащить все из карманов? А не то они порвутся.
Она улыбнулась. Перед тем как лечь в постель, он был почти всегда уставшей собакой, и она почти всегда раздевала его, вешала его одежду и доставала из карманов вещи. Теперь, как и прежде, она вытащила из карманов все, что там было, и разложила на крышке умывальника: маникюрные ножницы и пилку для ногтей, пачку сигарет, мундштук, записную книжку, часы и брелок от часов, манжетные запонки и серебряные запонки для воротничка, а также булавку от галстука. Она бережно сложила его брюки, так, чтобы они сохранили свою форму и заутюженные складки. Заметив, что забыла закрыть дверь, она досадовала на свою беззаботность и шла закрывать дверь на кухню, перекрыв последний доступ света туда.