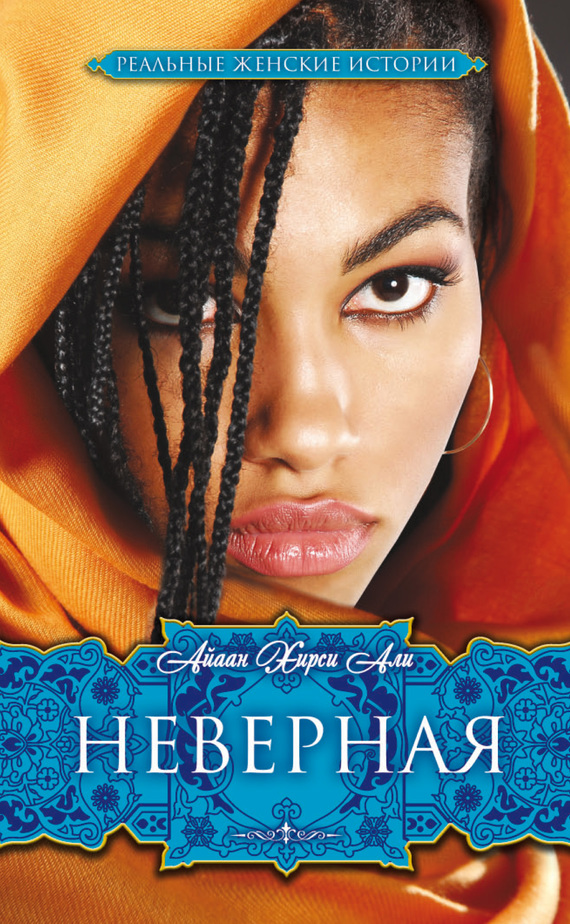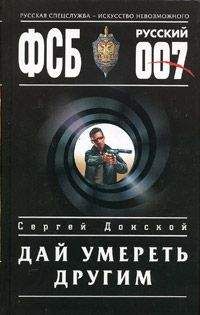мы однажды вырастем. Переходный возраст был еще одной частью современной жизни, чуждой ее воспитанию. В пустыне, где росла мама, дети взрослели очень быстро.
Хавейя была решительной, честной – настоящим борцом. Я отчасти восхищалась ее смелостью. Но в те годы наш дом часто чуть ли не взрывался от скопившегося в нем гнева. Ссоры были такими громкими, что мне хотелось сжаться и стать невидимой. Мама, бабушка и Хавейя кричали так, что вены проступали у них на лбу. Ни с того ни с сего одна из них могла встать и перевернуть стол, изрыгая проклятия.
Однажды сестра пришла к Джинни Бокору и спросила, можно ли от него позвонить отцу – ей нужны были деньги на стрижку. Джинни дал Хавейе двести шиллингов, и она распрямила волосы и уложила их локонами вокруг лица. Когда мама пожаловалась Джинни, он только подмигнул ей и сказал:
– Счет за разговор все равно был бы не меньше. В любом случае, новая прическа ей очень идет!
Хавейя почти всегда выигрывала. Она носила босоножки на высоком каблуке, юбку выше колен и красила ногти – словом, выглядела так, как маме не снилось даже в самых страшных кошмарах. Когда у Хавейи начались первые месячные, мама просто разрыдалась.
Потом Хавейя познакомилась с Сарой, женщиной из клана Исак. На самом деле сначала ее встретила бабушка, когда пасла овцу, и пригласила в дом на чай. Сара носила штаны, блузки и огромные очки, красила волосы в рыжий цвет. Она была старше нас с сестрой – ей было года двадцать три – двадцать четыре. Сара вышла замуж в четырнадцать, у нее подрастало трое детей. Она пригласила нас с Хавейей к себе посмотреть телевизор. У меня не было времени, а сестре у нее так понравилось, что она стала ходить в гости к Саре почти каждый день. Они могли часами болтать и смотреть телевизор. Иногда Сара уходила из дома, а Хавейя сидела с ее детьми – в благодарность она получала книги или помаду.
Постепенно они стали вместе ходить на дневные дискотеки. Сара часто говорила, что мне тоже не мешало бы пойти развлечься, ведь, когда я стану старше и выйду замуж, мне уже будет не до веселья. На дискотеках было шумно, мне там совершенно не нравилось, но Хавейя обожала наряжаться и танцевать.
Сара рассказала Хавейе о том, что семейная жизнь чудовищна. Ее муж, Абдалла, был отвратителен. В первую брачную ночь он изо всех сил старался проникнуть в нее, разорвать шрам у нее между ног. Боль была невыносимой. Абдалла даже хотел разрезать его ножом, ведь Сара была так туго зашита, что он никак не мог ввести в нее пенис. Она в красках описывала, как муж стоял над ней с ножом в руках, а она кричала, умоляя его этого не делать. В конце концов он, видимо, сжалился над бедной четырнадцатилетней девочкой, потому что все же согласился отвезти ее в больницу вскрыть шрам.
Свадьба Сары не закончилась торжествами: не было окровавленных простыней, которые нужно показать под аплодисменты и одобрительные возгласы гостей. В зале только прошел шумок разочарования и подозрений насчет девственности Сары и мужской силы Абдаллы.
Эта история напугала меня: толпа людей, окровавленные простыни – чуть ли не изнасилование, происходившее с благословения семьи Сары. Мы с Хавейей ни на мгновение не могли себе представить, что подобное произойдет и с нами. Но для Сары брак означал именно это: физическое насилие и публичное унижение.
Сара говорила Хавейе:
– У меня не было детства. Они лишили меня жизни.
Абдалла приходился Саре кем-то вроде кузена и был на десять – пятнадцать лет старше ее. Несмотря на то что муж не поднимал на нее руку, она ненавидела его всем сердцем. В отместку она даже перестала заботиться о детях, называя их «его детьми». С девятилетней дочерью Хасной Сара обращалась как с рабыней. Хасна ходила за покупками, готовила, убирала, а Сара постоянно била ее и тратила все деньги мужа на наряды и косметику. Сара мне совершенно не нравилась.
* * *
Не только Хавейя сбилась с нелегкого, но ясного пути, уготованного нам мамой. В шестнадцать лет Махад бросил школу. Однажды он просто перестал туда ходить. Через несколько месяцев мистер Гриффин, директор, сказал маме, что теперь уже ничего не исправить: Махада исключили без права восстановления. Мама была в ярости, но Махад только фыркнул в ответ – он был уже слишком высоким и сильным, чтобы его можно было побить.
Рядом с Махадом не было отца, который мог бы помочь ему пройти через отрочество. Рядом были только друзья. Некоторые из них курили гашиш, пили пиво в барах и изображали крутых. Махад всегда был ближе всех к матери: она баловала его, готовила ему особые блюда. Но после того как мы перебрались в Кению, он вырос, стал сильнее и хитрее, почувствовав, что может больше не подчиняться ей. Строгие сомалийские обычаи казались совершенно бессмысленными, с точки зрения нормального парня, который проводит почти все свое время на улицах Найроби. В те годы ислам не привлекал его. Махад не был прилежен в учебе, но не хотел мириться с тем, что его оценки ниже, чем у других ребят, которых раньше он легко превосходил. Брат полностью сбился с пути.
Мама не знала, что станет с Махадом. И это была не единственная ее забота. Дом, который мы снимали в Кариокоре, продали, и нам в ближайшее время нужно было съехать оттуда. Арендная плата выросла, а у мамы почти не было денег – только то, что ей давали родственники отца из субклана Осман Махамуд. Каждый месяц она вынуждена была приходить к Фараху Гуре, одному из крупнейших бизнесменов Осман Махамуд в Найроби, и, делая вид, что не просит, с достоинством уведомлять его о том, что расходы на жизнь опять возросли. Мама не желала ютиться в тесной, шумной квартирке, как большинство остальных сомалийцев в Найроби. Она хотела жить в хорошем, чистом доме.
Фарах Гуре был добр, но его щедрость была небезгранична. В конце концов он прямо сказал маме, что ей придется переехать в квартиру. Мы были не единственной семьей, оставшейся без отца, и Фарах Гуре не мог позволить себе оплачивать нам еще более дорогое жилье.
В декабре 1985 года из Могадишо к нам приехал дядя Мухаммед, мамин старший брат. К этому времени наши дела шли из рук вон плохо, так что его приезд был будто глоток свежего воздуха в жаркий день. Дядя Мухаммед был рослым и энергичным, очень похожим