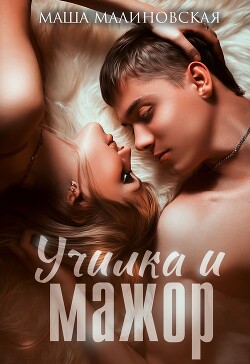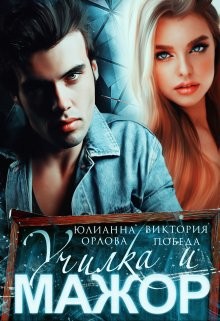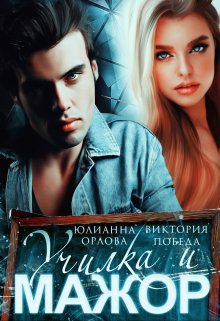Вера произносит эти слова с таким отвращением, что у меня внутри за неё отдаёт болью. За неё и за Семёна, потому что, исходя из сказанного Верой ранее, с сыном у Радича-старшего, отношения не намного лучше. И даже смею предположить, что, возможно, и хуже.
Да и вообще… Это каким деспотом нужно быть, чтобы девочка-подросток решила не есть за родительский счёт? Это притом, что семья у них явно небедная.
Я смотрю на Веру другими глазами. И Семёна теперь вижу иначе. Жить всё детство в конфликте, взрослеть в накалённой атмосфере — мучительно. Это или ломает, или заставляет обрасти жётским панцирем.
И у Семёна, и у Веры этот панцирь есть. У одной прикрытый розовым шёлком, у другого чёрной кожей. Но за ослепительной девичьей улыбкой и уверенным мужским взглядом скрыты конфликты детства.
— С мамой тоже не всё гладко?
— Наша мать очень нас любит, — говорит Вера, но я слышу иронию в её словах. — Но у неё свои представления о нашем счастье. И неважно, что они идут в разрез с тем, чего хотим мы сами.
Да уж.
— Но ты не парься. Это наши траблы с предками. Главное, что мой брат в тебя втрескался. И, кажется, весьма основательно.
Чувствую, как к щекам приливает кровь. Не скрою, мне приятно слышать это. В груди тоже становится тепло, и даже появляется лёгкость. Но я быстро напоминаю себе, что ситуация сложная, и нужно что-то делать.
— Если будет чудить, ты лучше мне звони, — Вера просовывает по столу бумажку с номером телефона. — Ты мне нравишься, Василина, и мне нравится мой засранец-брат, каким он становится рядом с тобой. Ну а пока…
Она кивает на дверь кофейни, я рефлекторно поворачиваю голову, и сердце пускается вскачь. Потому что как раз в этот момент в дверном проёме появляется мой Бамблби.
38
Я срываюсь с места и бросаюсь ему прямо в объятия. Обхватываю за шею и прижимаюсь всем телом. И плевать, кто что скажет или подумает.
— Боже мой, я так испугалась, — шепчу, а у самой слёзы катиться начинают. — Ты дурак. Настоящий дурак! Вот зачем начудил? Зачем?
Поток моих эмоций не остановить. Он прорывается наружу, но дышать становится легче.
Семён тоже обнимает меня крепко и держит, не отпускает. Поглаживает ладонью спину, чуть укачивает, как будто я маленькая.
— Привет, братишка, каково там на нарах? — стебёт Вера у меня за спиной. — Кто в хате был смотрящий? Наколки покажешь?
— У тебя глубокие познания в тюремной иерархии, Вера. Вы с профом сменили локацию? — отбивает ей Семён, ухмыляясь.
Сестра в ответ показывает ему средний палец с самой милой и лучезарной улыбкой, которую я только видела.
А мне хочется рассмеяться. Захохотать от облегчения. Я понимаю, что вряд ли вопрос решён уже окончательно, но если его выпустили, пусть даже под залог и подписку о невыезде, это уже хорошо.
— Я провёл ночь в обезьяннике, меня только утром должны были отправить в СИЗО. Но батя успел раньше, — он присаживается за стол и берёт кусок моей пиццы. Откусывает и смачно жуёт, закатив глаза. — Вкусно!
— Ты жрёшь так, будто отсидел на хлебе и воде лет пять, — идентично закатывает глаза в ответ Вера.
— Зато ты жрёшь, как будто всё время сидишь, — парирует ей Семён громко и вкусно отпивая мой кофе. — Вот Адамовну я есть заставил, она умница, да, детка?
Я чувствую себя растеряно. Оказываюсь не совсем готова к столь откровенной беседе в присутствии ещё кого-то, кроме нас двоих. Просто, наверное, я привыкла, что мы прячемся, скрываем свои отношения, а тут вдруг “детка” в кафе.
— Расслабься, Василина, — он притягивает меня к себе и целует в шею. — Ты не за кафедрой. И это просто моя сестра.
Смущённо улыбаюсь и опускаю глаза. Не могу ничего с собой поделать. Мы и с Пашей никогда не вели себя так вне дома. Да и дома тоже. А Семён такой свободный, такой откровенный в проявлении своих чувств.
Но Веру, кажется, удивить сложно.
— Ладно, поехали мы, — он доедает пиццу, решительно берёт меня за руку и встаёт. — Вера, спасибо, что подкинула Адамовну. Профу-задроту привет.
— И ничего он не задрот, — выстреливает фак с розовым ногтем Вера.
— Да все эти препода задроты, — отмахивается Семён, а когда я уже набираю воздух в лёгкие, чтобы праведно возмутиться, он притягивает меня к себе за шею. — Не бузи, малыш, ты тоже задрот. Но я над этим работаю.
И окончательно гасит моё возмущение поцелуем.
Я сначала вся напрягаюсь. Никогда не целовалась в общественных местах, для меня такое поведение всегда было верхом неприличия. Но Радичу, кажется, плевать на всё и всех. И сопротивляться ему бессмысленно.
Так, в обнимку, будто нам по восемнадцать, мы и выходим из кофейни. Его полосатая машина припаркована прямо у крыльца заведения, в ней играет музыка.
— Я зверски соскучился за эту ночь, Василина, — шепчет в ухо, крепче прижимая. — Знаешь, что это значит?
Поднимаю брови в немом вопросе, но ответ уже знаю заранее.
— Что я с тебя сегодня не слезу.
Уже в который раз он швыряет в меня откровенностями, пора бы и привыкнуть. Но я по-прежнему вспыхиваю каждый раз.
Однако…
Это всё, конечно, так. Я тоже очень соскучилась. Но ведь Семён не просто где-то там по недоразумению застрял.
Мы садимся в машину, и я прошу сделать музыку тише, когда отъезжаем от кофейни, с намерением поговорить.
— Сём, ты молчишь о произошедшем. Я волнуюсь. Что сказал отец? Удалось ли как-то решить дело?
— Не парься, Вась, — чуть сдвинув брови, отвечает, продолжая глядеть на дорогу. И молчит, не собираясь ничего пояснять.
В горле начинает немного горчить. Неприятно, когда от тебя отмахиваются.
— Мне не нравится, что ты не считаешь нужным обсуждать со мной проблемы. Я не одна из твоих девиц, только хлопающих глазами и заглядывающих тебе в рот, ясно?
Он молчит, продолжает следить за дорогой, а меня разгоняет.
— Со мной надо считаться, Семён, — в груди начинает клокотать. Все переживания за него концентрируются сейчас в комок и начинают выходить наружу возмущением. — Просто трахаться и затыкать мне рот не получится.
Вижу, что у него натягиваются желваки на челюсти, а цифры на спидометре растут. Но во мне, кажется, скопилось слишком много, и оно не хочет останавливаться.
— Мне неприятно, что ты игнорируешь мои чувства. Я вся сгораю внутри от переживаний. От того, что тебе плевать на то, что я чувствую! Ты просто отмахиваешься и всё! Ты вообще слышишь меня?
Едва не вскрикиваю, когда он резко сворачивает с дороги и бьёт по тормозам возле деревьев.
— Знаешь что? — хватает меня обеими руками за голову и приближает к своему лицу. — Плевать на твои чувства? Моих девиц?
Взгляд глаза в глаза. Он смотрит жёстко. Но вместе с тем как-то даже с болью, что ли…
— Ты что такое несёшь? Ты сама хоть представляешь, как меня колбасит, когда я вижу тебя в универе? И должен при этом делать вид, что между нами ничего нет. Слышать, как некоторые студенты обсуждают твою охуенную задницу и не дать им в рыло? Или как некоторые препода пялятся на тебя. Да вообще сука все пялятся! — в его голосе вибрируют эмоции, которые и меня ощутимо цепляют.
Мы будто два поезда, что несёмся навстречу друг другу. По одной колее.
— А знаешь, о чём я думал сегодня всю ночь в обезьяннике? — моё сердце с каждым его словом качает кровь всё яростнее. — Мне похуй было на всё, только одно раздирало — ты! Что если я сяду, то ты тут останешься без меня. Одна в этом блядском мире. И я бы запретил ждать. А сам бы сдыхал от боли, что ты найдёшь другого, что детей ему родишь. Ему! Другому! Не мне, Василина. А я хочу, чтобы мне. Вот что было было самым ужасным.
Я замираю. Внутри разливается что-то светлое и тёплое, топит каждую клеточку, а глаза начинает печь. А Семён, уже не удерживая, а нежно поглаживая большими пальцами мои скулы, продолжает чуть тише.
— Потому что влип я в тебя, Адамовна, — его голос садится до хрипоты. — Влюбился. И никто мне в этом ебучем мире больше не нужен.