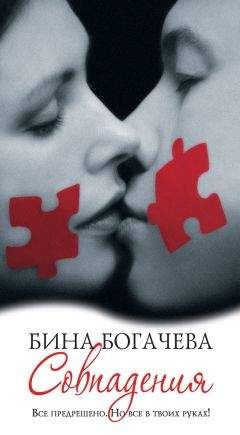– Наташ, ты чего тут? – услышала она над ухом голос Лены и вздрогнула, будто поймали ее за неким постыдным занятием. – Ждешь кого-то?
– Нет. Никого не жду…
– Может, вместе со мной до салона прогуляешься? Смотри, какая погода хорошая! Правда, пух этот противный летит, никакого спасения от него нет…
– Нет. Спасибо, Лен. Я не могу. Я… я лучше к себе поднимусь…
– Да что с тобой? На тебе лица нет!
– Да все в порядке… Сердце что-то немного прихватило. Кофе, наверное, перепила.
– У Валерьяновны валерьянка есть… Хм, как смешно! У Валерьяновны – валерьянка!
– Ага, смешно…
Развернувшись, она вяло поплелась обратной дорогой – через фойе, вверх по лестнице, через коридор мимо приемной.
– Наташ, ты чего за ней побежала-то как очумелая? – участливо переспросила Алла Валерьяновна.
– Я думала, она ключи от кабинета увезла…
– Так у меня ж запасные есть!
– Ага. Есть. Я знаю…
– Странная ты какая-то! Ну ладно, я на обед побежала! Тебе принести чего-нибудь? Там, в кафе напротив, с собой дают.
– Нет, спасибо.
– А то давай я принесу…
– Нет! Спасибо! Я не хочу есть!
Господи, когда они от нее отстанут со своим заботливым любопытством? Надо быстрее идти к себе, закрыться, побыть одной… Ужас как хочется заплакать, разрыдаться в полный голос, поколотить ладонями по столу, разбить чего-нибудь вдребезги!
Захлопнув за собой дверь кабинета, она повернула ключ, подошла к окну, уставилась пустыми глазами в проносящуюся мимо пуховую метель. Слез почему-то не было. Еще минуту назад она едва сдерживала их, пытаясь донести до спасительного кабинетного одиночества, и вот, пропали куда-то. Наверное, обратно в организм ушли, чтобы делать там свое черное тоскливое дело. А может, они там сейчас объединяются с осколками разбитого еще вчера самолюбия… Бабушка всегда в таких случаях говорит, что, если слезы пришли, их надо обязательно побыстрее наружу выпустить, иначе они возвращаются обратно и там, в организме, во всякие болезни трансформируются. Да еще и вместе с осколками. Наверное, она права… Бабушка…
Коротко и болезненно вздохнув, она раскрыла ладонь с судорожно зажатым в ней мобильником, набрала бабушкин номер. Длинные гудки долго пели свою нудную песню, пока их не прорезал бодрый бабушкин голос:
– Да, Натка! Слушаю!
– Ба… Я сегодня не приеду…
Она и сама не узнала своего голоса – до того он был писклявым и жалостным. И слезным. Значит, передумали-таки слезы вершить свою черную в ее ослабленном последними событиями организме, решили выйти наружу. Что ж, и на том спасибо.
– Натка, ты что, плачешь, что ли? Господи, что случилось?
– Ба, он сейчас уехал… с ней… Ба, я видела…
– Кто уехал? Куда уехал? Говори яснее, ничего не понимаю!
– Саша сейчас уехал с этой… с Анной, с той самой, которая у нас на даче была…
– Фу ты, господи, напугала! Ну, уехал, ну и что? Чего ты ревешь-то?
– Да как ты не понимаешь, он… Он совсем другой стал! И вчера тоже… Смотрит на меня и не видит совсем! Он меня разлюбил, ба…
Она всхлипнула совсем уж тяжко и замолчала, борясь с сильным спазмом и чувствуя, как слезы обильно текут по щекам, попадают в рот, капают с подбородка, и как моментально распух нос, и через все это мокрое хозяйство загундосила еще более жалобно:
– Как мне теперь жить, а? Я же люблю его, я без него не могу… Ну как мне теперь жить, скажи…
– Что, все так серьезно, да? Он что, сказал, что уходит?
– Не-е-ет… Ничего он не сказал… Но я же все вижу, я же не слепая… Его как подменили, ба!
– Что, за один вечер взяли и подменили? Да брось ты, Натка! Так не бывает! Ты все преувеличила, как всегда… И вообще, перестань реветь!
– Нет, нисколько я не пре… преувеличиваю! – с трудом сквозь слезы выговорила длинное слово Наташа. – Ба, я боюсь, что он меня бро… бросит…
– Да господи боже ты мой, Натка! Что значит – бросит? Ты что, ненужная вещь, чтобы тебя выбрасывать? Не смей даже употреблять в отношении себя такие выражения! Чтоб я не слышала этого больше, поняла? И вообще, нашла о чем горевать! Нормально проживешь и без Саши своего! Ничего, проживем, и Тонечку вырастим! И бог с ним, если он таким ненадежным оказался!
– Да что ты такое говоришь, ба! Ты же… Ты же ничего не понимаешь! Ты так говоришь, потому что сама без мужа всю жизнь жила, и мама тоже… Я знаю, вы обе хотите, чтоб и я…
– А! Ну да, конечно, тебе виднее, чего мы с матерью хотим… – обиженно протянула бабушка, – ты же у нас одна такая, шибко умная писательница! А мы чего, мы всего лишь глупые читательницы, в тонких психологиях не искушенные…
– Ой, да при чем здесь писательница! Я же тебе говорю, что я люблю его, а ты – писательница… А самое обидное, что я сама, сама эту Анну выдумала, понимаешь? Сама себе наперед все предугадала, накликала беду…
– Ну ладно, Натка, прекрати реветь… Все растолкается по углам постепенно, утрясется все. Перемелется, мука будет. Не ты первая, у которой муж налево пошел, не ты и последняя. Ничего, переживешь. Не война ведь. Успокойся, Натка…
Бабушкино журчание тихо лилось в ухо, уверенные интонации голоса несли успокоение и надежду, и вот уже вздохнулось длинно, с короткими последними всхлипами, и захотелось взглянуть в зеркало, ужаснуться собственному вдрызг перемазанному тушью и помадой лицу.
– Ладно, ба… Действительно, не война ведь… – произнесла она кротко и даже чуть дрогнула губами в грустной улыбке.
– Натка, а ты приезжай к нам сюда, возьми отгул на работе да приезжай! А что? Отдохнешь…
– Нет. Я лучше сейчас отпрошусь да домой пойду. Мне дома лучше.
– Ну, смотри…
– Ба, я сегодня к Таечке не пойду, ладно? А вечером тете Нине позвоню… Честное слово, не могу, сил нет…
От процедуры «отпрашивания» ее снова избавила милейшая Алла Валерьяновна, вызвавшись самолично проконтролировать ситуацию и замолвить в начальственное ухо Ивана Андреича нужное словечко, если в таковом настанет необходимость. Вероятность же необходимости была ничтожно мала – отбывая домой на обед, Иван Андреич все реже и реже находил в себе силы возвращаться к своим руководящим обязанностям, полностью отдаваясь послеобеденному старческому отдыху. Преданная же Алла Валерьяновна в это время сидела как на иголках, то есть напряженно блюла его авторитет, отшивая наиболее рьяных сотрудников резко и категорично: зайдите, мол, чуть позже, Иван Андреич может приехать с минуты на минуту. Так и проходил остаток рабочего дня, перескакивая с одной минуты на другую, а потом и наиболее рьяные к этому режиму успели попривыкнуть, со своими бумагами после обеда особо уже и не выскакивали.
Домой Наташа решила пойти пешком. Вернее, побрести. Потому что в таком угнетенном состоянии духа люди не ходят, а именно бредут, неся свои проблемы оковами на ногах. Над городом явно собирался дождь, и она мысленно призвала его обрушиться на ее бедную голову – давай, давай, пусть… Как говорится, до кучи. По крайней мере, можно идти под дождем и плакать, не привлекая чужого любопытного соболезнования.