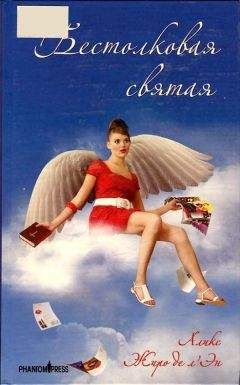– У кого что болит, тот о том и говорит, – согласился Извара.
– Ох, не могу, одна в пологу! Нету милого дружка почесать брюшка, – завелась шутить Матрена.
– У Матрены, вишь, брюхо болит, – рекши Извара.
– Ох, баба Матрена, как бы на твое брюхо царская монополия не пришла, – засмеялся Путила.
– Олей! Аз бы и рада государю услужить, да года не те. Стара для царских-то утех. Труха уж сыпет из Матрениного гузна.
– Будет тебе наговаривать на себя, – подъелдыкнул Извара. – А как же дьяк приказной из Леденьги?
– Какой дьяк? – всплеснула Матрена руками. – Тьфу на тебя, Извара Иванович!
– А-а! – сродственник погрозил пальцем. – Кабы не дьяково ремесло, у Матрены давно б заросло!
– О-ой, бес! – нарочито возмущалась польщенная Матрена. – Да аз уж двенадцать лет благонравная вдова. Али стала бы чадцев повивать? В этой вещи жена нужна безгрешная.
– Глумлюсь аз, Матрена, не сердись.
– А чего мне сердиться? На сердитых черти воду возят. Аз же жена благодушная. Да, Мария? – ткнула Матрена в бок свою последнюю роженицу, дабы заручиться ея подтверждением своей благонравности. – Мария? Спит!
– И то время, петухи уж пропоют скоро.
– Ну, давайте по последней чарочке за мой возврат живым-невредимым, – предложил Путила.
– С возвращением, братец, – подняла Феодосья чарочку, в которой чуть плескалось на дне медового питья.
– А утром ни свет ни заря поеду к воеводе – на поклон с дарами московскими. Да опричь того на дело о бесовском зелье.
Феодосья поперхнулась и закашлялась.
– Что еще за дело? – удивились Василиса с Изварой.
– Да аз ведь по дороге скрутил торговца бесовским табачным листом, – сообщил Путила. – С товарищами кинули его в правежной избе. Эдаким самоправным держался, охабень расшитой, до земли, что твоя риза. На загривке крест вон с Федосьину пясть размером. Где-то он у меня в коробе брошен. С поганого говна и крест на себя надевать неохота. Обменяю после на деньги. Ничего, не сегодня так завтра сему вору вместо узорчатого дубовый охабень наденут.
Путила с силой зевнул.
– Пошел-ка аз почивать. Мария, жена, разсонмись, отведи мужа в горницу.
– А что за торговец? Али бродяга? – сиплым голосом вопросила Феодосья, глядя на тень Путилы на стене.
Тень пошевелилась и ударила Феодосью в висок черным кистенем.
– Хуже бродяги. Главарь скомороший. Актер, что ли? Гусли ему в оход! Пошли, Мария.
– Иван аз, родства не помню, – упрямо повторял Истома.
И качался из стороны в сторону, как баркас на черных осенних волнах. И гружен тот баркас был кулями с солью. И сыпалась проклятая соль из прорехи прямо на спину Истоме. Она, соль, ела мясное у Истомы. Он, скоморох, выдержал бы любой правеж, кабы не эта соль. Упасть бы спиной в воду, дабы вымылась проклятая! Миски воды под баркасом сплющивались, наполнялись обручами, то и дело менявшими цвет, то свинцовыми с сажей посередке, то серебристыми с серым разверзтием. А это кто вдали раскачивается так же мерно на снегу? Титка! Титка… Товарищ. Титку, веселого любодея, беззаботного сочинителя срамных скоморошин, уж три дни грыз рак. Выпер он внезапу, из брюха. Скоморохи с восторженным ужасом глядели на Титкин пуп, из которого, мнилось, тщится прорасти дерево с огромными корнями. Когда вой Титки стал совсем уж невыносим, Истома с иным скоморохом, кажись гусляром Федькой, ссадили умирающего товарища в сугроб на обочине санной дороги, тянувшейся вдоль занесенной снегом реки. Гусляр принял сие походя принятое решение товарищей без удивления либо протеста, словно так оно и полагалось. Тит даже не прервал своей мучительной качки и продолжал ее, пока Истома с Федькой усаживали его половчее в сторону от дороги. Отъезжая, Истома оглянулся. Титка, словно и не заметив, что сидит он уж не в санях, а подле рощицы заиндивелой рогозы, обтрепанным обшлагом указывающей край берега, скрытого под сияющим в зимнем солнце снегом, качался в своем рыжем дворняжьем тулупе.
– Титка, легче от снега-то? – крикнул Истома.
– Легче, – с печальным удивлением промолвил Тит. – Вроде не печет брюхо.
– А мне вот соль в сукровицу насыпалась, – пожаловался Истома. – Где бы воды взять, вымыть? Титка, куда ж вода делась? Снег кругом… Разве сейчас зима? А как же баркас волнуется, коли лед? Али река не замерзла? Титка…
– Истомушка, это я, Феодосья.
Феодосья уж незнамо сколько раз звала Истому под вырубленной в стене темницы узкой прорехой, в которую все желающие тотьмичи могли класть заключенным хлеб али другое пищное. Кормить воров и разбойников из казны не то чтобы возбранялось, но полагалось в Тотьме лишней тратой кун. Так что редкие разбойники, ожидавшие в темнице судилища, питались лишь тем, что пропихивали в щель добронравные тотьмичи. Впрочем, оголодать разбойники не успевали: томили воров каленым железом али правили кнутом не более трех дней – тратиться на более длительный караул полагали нужным только в Москве, да и то в случае расследования по важным государственным делам. Тотемский же воевода Орефа Васильевич, добрый боярин, лиходеям лишний день страдать не давал – суд вершил весьма скорый. Иной раз не успеют пострадавшие тотьмичи притащить вора да доложити про украденных пчел, к примеру, как Орефа Васильевич тут же, на месте, налагал улей с медом обратить в казну, а вора повесить на городской стене. И подвесил бы скомороха, изловленного с бесовским зельем, в тот же день. Тем более Орефе Васильевичу, ставшему обладателем трех кулей табаку, хотелось поскорее пустить отраву в оборот и прикинуть, насколько выгодно торговать запрещенной зелейной травой? Но дело скомороха, упорно называвшего себя Иваном, родства не помнящим, приняло другой поворот: не бесовским зельем внезапу засмрадило, а… страшно сказать… заговором. При первом же ударе кнутом по лицу актера шапка, так крепко надвинутая на лоб, что не скатилась даже в драке с купцами, низвергнулася Истоме под ноги. И на разоблаченной главе под спутанным волосьем обнаружилось весьма лихое клеймо – буквица «буки». Сиречь бунтовщик! И уж очень свежа оказалась сия азбука. Дикое мясо, которым проросло письмо, бысть ищо парным. И цветом бысть рубец бруснелый, что рак вареный.
Утром, как явился к Орефе Васильевичу Путила Изваров Строганов да поклонился московскими дарами, да доложил об изловлении разбойника, воевода повелел приказному человеку начать правеж, дабы узнать имя лиходея. Дурень через час доложил, дескать, все вызнал: зовут вора Иваном, родства не помнит, сословие – свободный человек, скоморох. Воевода хотел было прибить балду за эдакий доклад, да на тот день не было у него другого палача, такое вот вышло недоразумение. Пришлось Орефе Васильевичу прервать беседу с Путилой и самолично поехать к правежному двору. Располагался он перед порогом темницы, что прирублена была сзади приказной избы. От хоромов воеводы было сие, чтоб кривду не солгать, шагов с десяток. Но Орефа Васильевич, как особа государственная, пешим ходом не передвигался и сие расстояние неизменно преодолевал на сером в снежных яблоках коне о двух верховых поодаль.