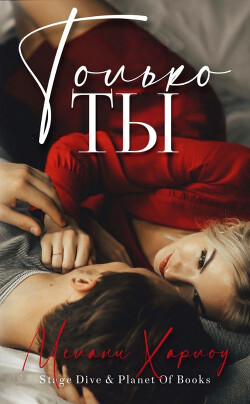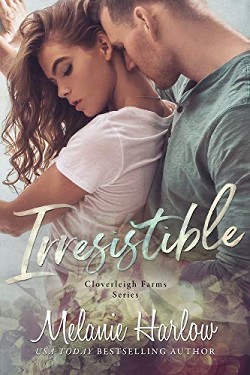— Я тоже. Но не буду играть в ее игру насчет микробов. Не хочу с ней спорить, и мне не нужно слушать всю ее статистику о том, как грязны общественные места или как легко распространяются вирусы.
— Почему бы не позволить ей надеть перчатки, если ей от этого станет легче?
— Потому что это смешно. Ей не нужно носить перчатки в доме. Я не хочу поощрять такое поведение. Ее терапевт сказал ей, что она должна прекратить это делать.
— Мне просто так жаль ее. Это, наверное, ужасно — все время бояться. Так бояться, что даже не можешь взять на руки собственную внучку. Неужели ты не можешь позволить ей сделать это в этот раз.
— Нет. Слушай, мне тоже ее жалко. И я все время ей уступал. Когда у нас заканчивалось молоко, а она не хотела идти в магазин за ним, потому что молочный отдел находится слишком далеко от выхода из магазина, я шел и брал молоко. Когда она хотела пойти на мой выпускной в школе в перчатках и хирургической маске, потому что в актовом зале не было окон, и воздух должен был быть полон загрязняющих веществ, я сказал «хорошо». Когда она боялась лететь в Северную Каролину, чтобы увидеть, как я заканчиваю колледж, потому что в самолете у нее мог случиться приступ паники, я сказал ей, что все в порядке. Но пару лет назад я принял осознанное решение перестать это делать. Это не помогало ей.
Возможно, я был слишком строг к Эмми, возможно, даже к своей матери, но я уже давно с этим справлялся, и не мог находиться в этом доме без плохих воспоминаний, которые стучались в мою психику.
Эмми положила руку на мою руку.
— Ты прав. Мне жаль. Хорошо, что ты можешь быть сильным ради нее, и не сдаваться.
— Мне тоже жаль. Я не хотел срываться на тебе, — я глубоко вдохнул и выдохнул. — В этом доме у меня много багажа. Я не всегда хорошо с ним справляюсь.
Она украдкой поцеловала меня в губы.
— Ты хорошо справляешься. И, возможно, твоя мама, в конце концов, не сможет удержаться от того, чтобы подержать Пейсли на руках, пока мы здесь. Она сейчас так хорошо себя ведет, не так ли?
— Да, — я поцеловал макушку моей дочери.
— А если нет, то всегда есть следующий раз, — она повернулась к стене со всеми фотографиями, и указала на одну из фотографий Адама, последнюю. — Это твой брат?
— Да, — как всегда, когда я смотрел на эту фотографию, что-то в моей груди обрывалось. Ни ухмылка на его лице, ни блеск в глазах, ни выбившаяся прядь волос на лбу не указывали на то, что ему осталось жить меньше года.
— Очаровательно, — она посмотрела на некоторые из моих ранних фотографий. — Вы, ребята, были очень похожи.
— Да.
— И знаешь что? — она перешла к ряду фотографий Адама, затем подошла к камину и изучила пару детских фотографий на белоснежном камине. — Я совершенно точно вижу семейное сходство в Пейсли.
Мама вошла в комнату с подносом, на котором стояли две чашки, от которых исходил пар, а также маленькая сахарница и коробка конфет.
— Я принесла и тебе немного, дорогая. На случай, если ты захочешь немного согреться, — она улыбнулась Эмми, и поставила поднос на столик перед бордовым диваном.
— Спасибо. На самом деле, пахнет очень вкусно. Думаю, я выпью чашечку, — Эмми подошла к дивану и села. — Я как раз говорила Нейту, что Пейсли очень похожа на него.
Моя мама кивнула.
— Я тоже так думаю. У Нейта были такие же волосы, когда он был маленьким. И глаза у нее точно такие же, как у него.
Некоторое напряжение во мне начало ослабевать. А потом.
— Но, Нейт, тебе действительно нужно получить полную медицинскую историю со стороны матери. Никогда не знаешь, к каким заболеваниям она может быть предрасположена, — глаза моей матери расширились. — Муковисцидоз, гемофилия, болезнь Хантингтона, болезнь Паркинсона, серповидно-клеточная болезнь, некоторые виды рака…
— Мама! Прекрати! У Пейсли нет ничего из этого! — крикнул я.
— Но в этом деле нельзя быть слишком осторожным, Нейт! — ее руки постоянно двигались. — Если бы мы знали немного раньше, что Адам мог быть предрасположен…
— Мама, — ярость кипела в моих венах, как расплавленная лава, но я старался держать себя в руках. — Прекрати. Говорить.
— Я только пытаюсь избавить тебя от того, через что мы прошли! А если бы мы знали? Я всегда думаю об этом. Что, если бы мы могли что-то сделать? Что, если бы было раннее лечение, которое мы упустили, потому что ничего не знали?
Но с меня было довольно. Пройдя через прихожую, я перекинул сумку с подгузниками через плечо и пошел вверх по лестнице.
— Мне нужно ее переодеть.
Я принес ее в свою старую комнату, которая выглядела совсем по-другому теперь, когда она стала комнатой для гостей — не то чтобы у моей матери было много гостей. Стены теперь были масляно-желтыми, а не темно-синими, старое ковровое покрытие было снято, а дубовый пол под ним отремонтирован. Моя двуспальная кровать все еще стояла на своем месте, как и письменный стол, и комод, но затемненные шторы исчезли, их заменили занавески с цветочным узором.
Я уставился на кровать, вспоминая многие ночи, когда мой младший брат спал у моих ног. Он всегда хотел, чтобы я рассказывал истории о привидениях, но потом ему становилось слишком страшно, и он возвращался в свою кровать — по крайней мере, так он тогда объяснял. Но, возможно, он просто хотел быть рядом со мной. Я жаловался маме на это, ныл, что это моя комната, и я не хочу ее делить. А когда его не стало, не было ничего, чего бы я не отдал, чтобы он снова оказался у подножия моей кровати.
Я уложил Пейсли на новое одеяло с узором из маргариток, затем достал из сумки пеленку и подложил под нее. Одеяло не казалось грязным, но я знал, что во время смены подгузника возможно все.
Тихо злясь, я выполнял все действия, едва осознавая, что делаю.
Как моя мать могла сказать мне такие вещи? Как она могла предположить, что я могу потерять Пейсли так же, как мы потеряли Адама? Разве она не знала, что эта потеря до сих пор преследует меня? Разве она не понимала, как это повлияло на меня? Или не видит, чем я пожертвовал, чтобы защитить себя от подобных страданий? Она просто бросает мои страхи мне в лицо, напоминая, как опасно любить такого уязвимого человека, как ребенок.
У меня свело живот.
Когда Пейсли была снова одета, я взял ее на руки и прижал к груди, уткнув ее голову под свой подбородок.
— Я никогда не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось, — тихо пообещал я ей. — Никогда.
Но как только я произнес эти слова, то осознал их пустоту.
Как я могу дать такое обещание? Какой силой я обладаю, чтобы защитить ее?
Я не был супергероем. Я был просто парнем, у которого не сработал презерватив. В моем пути к отцовству не было ни чести, ни благородства. Я даже не хотел этого.
Что, если я заслужил наказание за это? Что, если потерять ее будет моим пожизненным приговором?
Я поцеловал ее макушку, позволив губам коснуться ее мягких темных волос. Я вдыхал ее чистый детский запах. И сжал ее крепче, так крепко, что она начала извиваться и суетиться.
Я немного ослабил свою хватку, но мысли продолжали мучить меня. Глядя на кровать, где я провел так много ночей, молясь и надеясь на чудо, будучи уверенным, что оно произойдет, а затем разбитым до неузнаваемости, когда этого не случилось, я вспомнил, почему до этого момента я жил в одиночестве. Уязвимым был не только ребенок, которого ты любил, но и ты сам.
В случае с Пейсли у меня не было выбора. Я любил ее, потому что она была моей. Но как насчет Эмми? Она была выбором, верно? Она была моим желанием, надеждой, которой я позволил вырваться на поверхность. Я был ослеплен чувствами к ней, но теперь увидел свою ошибку.
О чем, черт возьми, я думал? Почему я впустил ее? Почему я отдал ей часть себя, которую никогда не смогу вернуть? Что будет, когда она устанет ждать, пока я передумаю жениться или завести семью, и уйдет от меня к тому, кто хочет того же, что и она? Рано или поздно это должно случиться. Зачем я настраиваю себя на душевную боль, если лучше других знаю, что желания не сбываются?