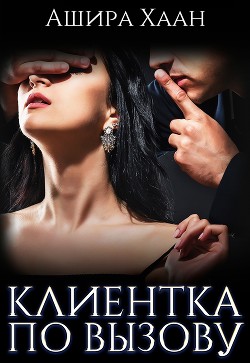московским проспектам, летящие в лицо огни, свист холодного ветра из приоткрытого окна и пустота внутри, которая расползалась, как огонь, пожирающий бумагу, с каждым километром дороги, стелющейся под колеса машины.
Герман затормозил на набережной, кажется, нарушив еще парочку правил, вышел из машины, оставив дверцу открытой, и я выбралась следом за ним. Ледяной ветер с Москва-реки выдул остатки истерики, и я просто подошла и встала рядом, глядя на черную поверхность воды, на которой огненными всполохами дрожали отражения оранжевых фонарей на мосту.
Я потянулась к его руке, нащупала холодные пальцы, сжала их.
— Ты замерзла, — сказал Герман. — У тебя есть перчатки?
— Есть.
— Надень.
Он подождал несколько секунд, но я не двигалась с места.
— Лана!
— Сейчас.
Пришлось вернуться в машину, где осталась сумка.
Я залезла в нее — и в руки мне выпал телефон, на светящемся экране которого висел десяток пропущенных от Зои, несколько десятков от Игоря и россыпь сообщений во всех возможных мессенджерах.
А еще я увидела время.
Два часа ночи.
Тогда. А если бы случилось?
Как-то в детстве, когда мне было семь или восемь лет, родители ушли на взрослую вечеринку, велев мне закрыть дверь и ложиться спать.
Я была очень ответственной и самостоятельной девочкой, поэтому заперла дверь не только на замок, но и на засов, который можно открыть только изнутри.
И легла спать.
Родители вернулись глубоко ночью и не смогли попасть в квартиру. Они случали, звонили, кричали, но я не просыпалась.
В конце концов дверь помог взломать сосед дядя Андрей с болгаркой и кувалдой.
Меня выволокли из постели и зачем-то заставили в одних трусах подметать отколовшуюся штукатурку.
Я была сонная, ничего не понимающая, и от криков, звенящих в ушах, совсем ничего не соображала. Помню только затапливающий все ужас и чувство вины вперемешку с недоумением — как такое могло со мной случиться? Ведь судя по крикам, произошло что-то чудовищное, невообразимо страшное, а я не делала ничего, чтобы это случилось.
Сознательно — не делала.
Ударивший мне в глаза свет от экрана телефона, на котором светились десятки пропущенных звонков, вернул меня в тот ужас моего детства, как выстрел автомобильного глушителя возвращает бывших солдат на поле боя, в кошмар войны.
Мне хотелось свернуться калачиком, закрыть глаза, заткнуть уши и спрятаться внутри себя, только бы ничего не слышать, ничего не видеть, отмотать обратно время до того момента, когда я совершила ошибку.
Задвинула засов.
Отпустила Зою.
Забыла о том, что должна была помнить всегда.
Не помню, что я сказала Герману, как он сел в машину, осознав себя уже внутри — я сидела, вцепившись в телефон, меня трясло как от холода, и каждый раз, как он оказывался слишком близко, я вся сжималась, пытаясь не прикоснуться к нему.
В моем охваченном огнем вины разуме, где рушились пылающие столбы, поддерживающие мой мир, он был тоже виновен. В чем? Не знаю. Я не могла думать, я только чувствовала.
Ответив на очередной звонок Зои, я едва, не уронив, поднесла телефон к уху трясущимися руками. И молча слушала ее рассказ о том, как она ушла, когда я сказала, дотянув, сколько могла. Захлопнула дверь, надеясь, что я появлюсь минут через десять и со спящими детьми ничего не случится.
Но я не появилась. Ни через десять минут, ни через час, когда проснулся Никита и пошлепал на кухню попить воды, а потом решил найти меня, Зою или папу. Но никого не было.
Он отправился будить брата — тот спросонья перепугался насмерть и начал реветь, решив, что их все бросили и никогда больше не вернутся. Все, что они смогли вдвоем придумать — позвонить папе в зимний лес.
Разбуженный среди ночи Игорь ничего не понял, не смог дозвониться мне, но смог — Зое и выяснил, что я пропала. Обещала приехать, но не приехала и на звонки не отвечаю.
Мне звонили и писали — Игорь, Зоя, дети, а я была так глубоко в своем дурманном сне, что не слышала звонки, не вспоминала, что есть где-то другой мир.
После Зои мне дозвонился Игорь и начал орать в телефонную трубку.
Звон в ушах смешивался со звоном в голове, звуча отдаленно и глухо, словно сквозь вату.
Я вжималась виском в ледяное стекло машины и слушала этот звон, закрыв глаза, не вычленяя из него ни слова.
Герман то и дело оборачивался ко мне, глядя с беспокойством, что-то спрашивал, но я не слышала его голоса. Его будто больше не существовало в моем мире.
Дальше я снова ничего не помню.
Только как пыталась открыть дверь квартиры трясущимися руками, а ключи раз за разом выпадали из них, пока я наконец не подняла глаза и не увидела Зою, которая прижимала палец к губами.
Наревевшиеся дети снова спали.
В доме стояла пронзительно-звенящая тишина.
Два глотка спокойствия — и снова звонок телефона.
И снова крики Игоря.
И снова один и тот же диалог, повторяющийся по кругу с минимальными изменениями.
— А если бы что-нибудь случилось?
— Но ничего не случилось.
— А если бы случилось?
— Но ведь не случилось.
— Лана! Могло!
— Могло. Но не случилось.
Он давил, я сворачивалась в клубок на диване, странно и страшно не считая себя достойной того, чтобы пойти в спальню и лечь нормально. Я караулила спящих детей, будто могла спасти их от неслучившейся беды.
Тысячу раз извинялась перед Зоей сквозь слезы, плела какую-то чушь — или это мне уже снилось в мутной дреме, снова прерываемой звонками Игоря, который ждал утра, чтобы вырваться из своего глухого леса.
Чем я занималась до двух ночи?
Он все время об этом спрашивал.
А я не знала, что ему ответить. Не знала даже, что ответить себе.
Меня скручивало от разъедающего изнутри как кислота чувства вины.
Мне кажется, я бы не чувствовала себя так, даже если изменила бы.
Потому что для этого надо было прийти в себя, осознать, что делаю.
Остановиться или продолжить — сознательно.
Но я была в дурмане, бреду, наркотическом сне, над которым была не властна.
Не совершая ничего плохого, я сотворила невообразимую беду, от которой не могла никак избавиться. Только подметать обломки штукатурки, ежась от холода и стыда в одних трусах и раз за разом пытаясь отмотать время назад, к моменту, когда можно