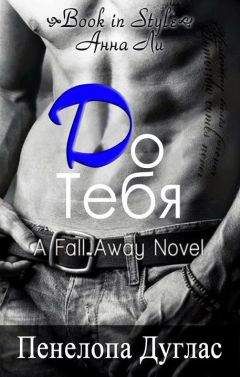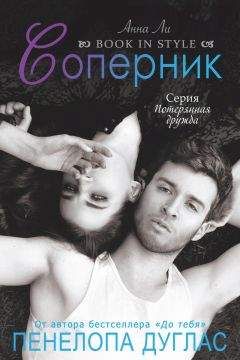— Люк, — крикнула Мелани в другую комнату номера, но там стояла тишина. — Пожалуйста.
Никакого ответа от мужчины, который несколько часов назад целовал ее под дождем из лепестков роз, и клялся перед всем обществом Парижа ей в вечной любви.
Как может супружеская кровать быть такой холодной? Мелани поежилась в своем кружевном халате и почувствовала, как слезы наполняют ее глаза, когда она увидела свой букет, белые розы и пурпурные лилии, он лежал там, где невеста оставила его — на прикроватном столике. Он все еще был таким свежим, словно новый, и Мелани вспоминала, как прислонялась к цветам, вдыхая их аромат, и понимание того, что теперь она миссис Люк Перетел, накрыло ее. Слова казались волшебными, словно заклинание в сказке. Но теперь, за окном светился город, и Мелани страдала, но не по своему новому мужу, а по другому мужчине в другом городе. Ох, Брук, думала она.
Она не осмелилась произнести это вслух, из-за страха, что их унесет прочь, за пределы ее досягаемости, и найдут единственную любовь, которая была у нее.
Ух. Я посмотрела на мать, которая все еще печатала, ее брови нахмурились, губы двигались. Теперь я знала, что то, что она писала, было чистой выдумкой. В конце концов, она была женщиной, которая создавала истории о жизнях и любви богатых, в то время как мы вырезали купоны, и наш телефон постоянно отключали. И он не похож на Люка, нового холодного мужа, у которого запасы Ensures или что-то вроде того. Я надеюсь.
— О, спасибо!
Моя мать, заметив чашку свежего кофе, протянула пальцы и подняла ее, делая глоток. Ее волосы были собраны в хвост, макияжа не было, она была одета в пижаму и тапочки с принтом леопарда, которые я подарила ей на последний День рождения. Она зевнула, откинулась на спинку стула и сказала:
— Я работала всю ночь. Который сейчас час?
Я посмотрела на часы в кухне, видневшиеся через занавески, которые все еще слабо раскачивались.
— Восемь пятнадцать.
Она вздохнула, снова поднесла чашку к губам. Я взглянула на лист в машинке, стараясь понять, что случилось дальше, но все, что мне удалось увидеть, это несколько строчек диалога. Очевидно, Люку есть, что сказать.
— Итак, все идет хорошо, — сказала я, кивая на кипу напротив моего локтя.
Она сделала рукой жест «так себе».
— О, ну, в середине есть небольшие намеки, ну ты знаешь, всегда есть мутные пятна. Но прошлой ночью, когда я почти уснула, ко мне пришло вдохновение. Это надо связать с лебедями.
Я ждала. Но оказалось, что это все, что она собиралась сказать мне, так как теперь она взяла пилочку из кружки, наполненной ручками и карандашами, и начала обрабатывать мизинец, придавая ему нужную форму.
— Лебеди, — наконец говорю я.
Она бросает пилочку на стол и вытягивает руки за головой.
— Знаешь, — говорит она, намазывая локон на ухо. — Это ужасные существа, на самом деле. Красивые, когда на них смотришь, но подлые. Римляне использовали их вместо сторожевых псов.
Я киваю, попивая свой кофе. Я могу слышать урчание кошки в комнате.
— Итак, — продолжает она: — Это натолкнуло меня на мысль о цене красоты. Или же что сколько стоит? Вы продадите любовь за красоту? Или счастье за красоту? Можно ли продать великолепного человека с подлыми прожилками? И если вы совершили покупку, допустим вы купили красивого лебедя, а он не отвернулся от вас, то что бы вы сделали, если все произошло наоборот?
Это были риторические вопросы. Мне так показалось.
— Я не могу не думать об этом, — говорит она, качая головой. — И не могу спать. Мне кажется, это из-за того ужасного гобелена, который мы повесили по настоянию Дона на стене. Я не могу расслабиться, когда смотрю на детально прорисованные изображения битв и страдания людей.
— Это немного слишком, — согласилась я. Каждый раз, когда мне что-нибудь надо в ее комнате, я оказываюсь прикованной к нему. Сложно отвести глаза от картины обезглавливания Иоанна Крестителя.
— Поэтому я пришла сюда, — говорит она. — Решив, что я плохой работник, и вот уже восемь утра, а я еще не уверена, что знаю ответ. Как такое может быть?
Музыка теперь стихает, ее слышно еле-еле. Я уверена, что чувствую, как булькает моя язва, но это должно быть кофе. Моя мать всегда была очень драматичной, когда писала. По крайней мере, раз во время каждого романа, она врывалась в кухню, почти в слезах, истерила, что она потеряла весь свой талант, книга сплошное болото, бедствие, конец ее карьеры, а мы с Крисом просто сидели, тихо, пока она снова не завопит. Спустя несколько минут, или часов, или — в плохие времена — дней, она возвращалась в кабинет, задергивала шторы, печатала. И когда книга выходила несколько месяцев спустя, пахнувшая новизной и с гладким, еще не потрескавшимся корешком, она всегда забывала о срывах, которые играли свою роль при создании. Если я напоминала ей, то она говорила, что написать роман все равно, что родить ребенка: если ты действительно помнишь, как больно это было, то никогда больше не будешь этого делать.
— Ты разберешься, — говорю я. — Как всегда.
Она закусила губу и посмотрела на страницу, затем в окно. Солнечный свет проникает внутрь, и я понимаю, что она выглядит уставшей, даже грустной, такой я ее еще не видела.
— Я знаю, — говорит она, словно соглашается только чтобы сменить тему. И затем, после секунды или двух тишины, она полностью переключает передачу и спрашивает: — Как Декстер?
— Думаю нормально, — говорю я.
— Мне он очень нравится. — Она зевает, затем извиняюще улыбается мне. — Он не похож на парней, с которыми ты встречалась.
— У меня было правило — никаких музыкантов, — объясняю я.
Она вздыхает.
— И у меня.
Я смеюсь, она тоже. Затем я говорю:
— Ладно, и почему ты его нарушила?
— Ох, по той же причине, что и все, — отвечает она. — Я была влюблена.
Я слышу, как закрывается входная дверь, Крис уходит на работу, прокричав до свидания. Мы смотрим, как он идет к своей машине, Маунтин Дью — его версия кофе — в руке.
— Думаю, он купит ей кольцо, если уже не купил, — глубокомысленно произносит моя мать. — У меня такое чувство.
Крис заводит двигатель, затем выезжает, медленно разворачиваясь в глухом переулке. Когда он проезжает, то пьет Маунтин Дью.
— Ну, — говорю я: — Ты узнаешь.
Она допивает кофе, затем тянется и гладит меня рукой по щеке, обводя контур лица. Ее пальцы, как и всегда, холодны.
— Ох, моя Реми, — говорит она. — Только ты понимаешь.
Я знаю, что она имеет в виду, и все же нет. Я во многом похожа на мать, но не тем, чем я бы гордилась. Если бы мои родители остались вместе и стали старыми хиппи, поющими песни протеста, когда мыли посуду после обеда, то возможно я бы была другой. Если бы я видела, что действительно может сделать любовь, или что это, то возможно я бы верила в нее с самого начала. Но большая часть моей жизнь прошла за наблюдением, как браки совершались и распадались. Поэтому я понимала, да. Но иногда, как недавно, я хотела, чтобы такого вообще не было.