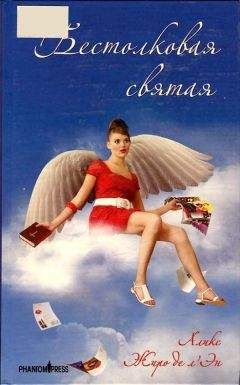– Когда же вы успели? – благодарно промолвила Феодосья. – И меня искали, и пироги творили?
– Да что ты, чадце? Тебя мы еще прошлой ночью с Божьей помощью обнаружили, да в дом внесли. Это вторая ночь пошла, как ты в беспамятстве, – Василиса всхлипнула и утерла слезу. – Вся горела, вся жаром пылала, как скирда.
– Вторая ночь? – охнула Феодосья. – Аз две ночи и весь день в одре пролежала?
«Как же Истома лютый мороз перенес? Жив ли? А что как его уж освободили? Где же он голову приклонил? Али в лесу? Волки да медведи… Волки! Что не привиделись ей в ночи его глаза? Что как серые разбойники его задрали?»
– Кабы ты лежала! Металась, что полохало, боялись, скатишься, тело свое белое зашибешь, весь пол вон овчинами устлали. Сегодня под утро только и угомонилась, – драматическим голосом протрубила Матрена и, словно учуяв мысли Феодосьи, припомнила: – Да все шумела: «Волки… волки…»
– Аз упоминала волков? – севшим голосом вопросила Феодосья и отвела взгляд на стену, где промеж бревен легко колыхалась, отбрасывая косматую тень, тонкая прядь пакли. – Может, я еще что бредила?
– А более ничего, – авторитетно заявила Матрена.
– Нет, более ничего, – торопливо закрепила утверждение Мария. И перевела разговор: – Что, баба Матрена, сильно волки в округе дел натворили?
Матрена подтянула обсыпанную зажаристой манной крупой ржаную рогульку с картофелем и с удовольствием оседлала своего любимого конька: правдивые новины.
– С Песьих Денег прибежала баба, вся растрепанная, распоясанная, как есть расхристанная. Ей люди говорят: «Чего ж ты, баба бесстыжая, простоволосой тащишься?» А она плачет: «Насилу живая ушла от медведей!» Да и рассказала, что в Песьи Деньги в самую полночь пришла целая свора медведей. Голодные, как волки! Как пошли по улицам, как в овинах да в хлевах заревели коровы, заплакали телятки, как захрипели на цепях псы. Добрые-то хозяева, у кого частоколы крепкие, спаслись, а черноты да голытьбы много те медведи порвали да сожрали. Одного мужика в колодец сбросили. Девку чуть девства не лишили. Всю ночь рев да стон стоял. Утром песьевцы, кто посмелее, вышли на улицу. Святый боже! Голые обгрызки рук да ног на дороге валяются, на сугробах кишки висят…
Жены в ужасе принялись креститься.
Парашка спешно подтянула с пола грязные ноги, опасаясь явления медведей в горнице.
– Баба Матрена, я сейчас сблюю! – выдавила Феодосья.
К слову сказать, про кишки Матрена живописала от себя. Но она не сомневалась, что картина разорения Песьих Денег была именно такой.
– Хуже Стеньки Разина медведи похозяйничали! – очень сожалея о тошноте Феодосии, не позволившей продолжить рассказ, подытожила повитуха.
Иллюстрация предстала столь ярко-жуткой, что жены приняли на веру медвежью похоть в отношении неведомой девицы и не стали искать причин, толкнувших хозяина леса на не свойственное ему озорство, выразившееся в скидывании мужика в студенец.
«Видно, муж сей за девушку вступился, – подумала Феодосья. – Вот и заломал его медведь да от злости низверг в колодец»
Чего не прилгнула Матрена, так того, что лютые морозы сотнями изгнали из вологодских лесов волков и медведей-шатунов, так что стаи зверья достигали торжищ, окруженных стенами городских кремлей, а уж окраины и хутора были опустошены подчистую. На отшибе деревеньки Етейкина Гора мужики изъявили схоронившихся в печи бабусю с двухлетним чадцем. Мать его, семнадцатилетнюю бабусину дочь Варьку, волк задрал прямо среди бела дня, когда вышла она на улицу от великой нужды: требовалось зарезать курицу. Известно, что в тотемских землях скотина, прирезанная бабой, в пищу идти не могла, как зело нечистая. Мать Вари ругалась с дочкой, дескать, чего голодом сидеть, зарежь курицу сама – никто об том, окромя Бога, не узнает. А Бог далеко, есть ли ему время в эдакий мороз за каждой Варькой с курицей следить? Но Варвара, благочестивая жена, второй год бедствовавшая без мужа, уперлась, и ни в какую: грех! Неделю сидели голодом, а потом пошла Варварушка на улицу попросить первого встречного етийгорца мужского звания прирезать птицу. Тут ее самое волк и прирезал. Мать увидала эту страшную вещь из-за забора и в ужасе залезла с внуком в печь. Где и сидела два дня, опустошая горшок вареных кореньев.
– А из Вологды в Тотьму ночью прибыл санный обоз, – сменила тему людоедства Матрена. – Четверо розвальней и крытые сани. Один возница, который сидел на головных санях, в дорогу припас туес водки и весь путь к нему прикладывался. Тем и спасся. А все, кто был в санях, – все до единого! – змерзли насмерть. Так и въехали на торжище идолами! Возница: «Тпру!» – еле языком от мороза шевелит. Сани встали, за ними четверо розвальней ткнулись. А никто не подымается. Сидят, белыми зенками щерятся. Добрые люди им: «Эй, чего сидите, гости любезные, али жопы приморозили?» Молчок. Люди подходят, зрят… А в санях сидят да лежат упокойники!.. Очеса уж насквозь промерзли!
Последние словеса Матрена произнесла густым шепотом.
– А-а! – басом вскрикнула холопья Парашка.
– А-а! – вскрикнули, подскочив, господские жены.
– Пошла прочь, дура! – закричала Мария. – Напугала!
– Тебя бы медведям-то заломать, умовредную, – накинулась на Парашку Василиса.
– И чего дальше? – спросила Феодосья. – Кто в санях был?
– В головных санках оказался нарочный гонец с секретной грамотой, – сообщила Матрена.
Откуда ей было известно про секретную бумагу, жены не спросили: Матрена знает все!
– И чего в грамоте? – не сомневаясь, что ее содержание доподлинно стало известно повитухе, вопросила Феодосья.
– А в бумаге сей сообщалось, что скоморох Истома, сидящий под стражей в остроге и называющий себя Иван, родства не помнящий, есть не кто иной, как наипервейший сподвижник разбойника Стеньки Разина, можно сказать, правая его кровавая десница… – в особо торжественных случаях Матрена умела прибегнуть к высокому стилю речи. – Андрюшка Пономарев!
– А как же узнали, что Истома и есть тот Пономарев? – еще не осознав всего смысла услышанного, удивленно спросила Феодосья. – Али в секретной грамоте его внешность описана?
– Внешность не описана. Невелик принц – описывать его еще! Потому что и так ясно, что этот Истома разбойник Андрюшка и есть.
– И что же теперь с ним будет? – вперив взгляд сквозь образа, и стену, и улицу до самого торжища, и щель острога, сказала Феодосья.
– А ничего, – зевнула, перекрестя рот, Матрена. – Казнят нынче в полдень. На Государевом Лугу сожгут да повесят.
Феодосья разжала перста.
С колен ея покатилась, страшно грохоча, пустая миска. Она проломила стену горницы, разворотила бревенчатый частокол, развалила стену Тотьмы, смела высокие берега Сухоны, расплескала море Окиян, разбила твердь небесную и обрушила поднебесный мир, погрузив землю во тьму на веки вечные.