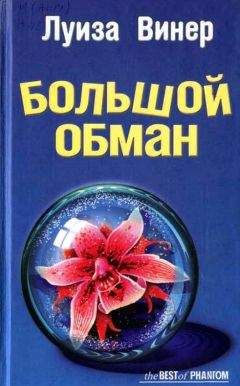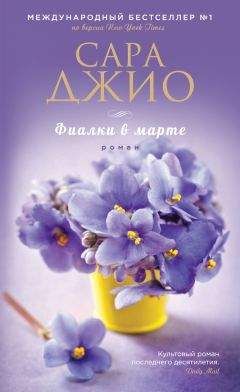— Загляни в кошелек, — ровным голосом произносит Фрэнк. — Фотографии там.
Я вынимаю портмоне и осторожно раскрываю его. Там два фото. На одном родители в день свадьбы. На другом — папа на берегу моря радостно машет кому-то рукой.
Этот снимок сложен пополам, линия сгиба проходит по левой руке папы. Со второй половины снимка скалится Джимми Шелковые Носки в своей спортивной куртке, сверкающих башмаках и белой шляпе.
— Она бы с удовольствием убрала этого типа с фотографии, но ей не хотелось портить снимок. — Фрэнк опять садится на кровать. — Она ненавидела этого человека, ведь он разрушил ее семью, но на снимке рядом с ним был твой отец. Я стоял на лестнице и все видел, хоть она и не знала. В руках у нее были ножницы, у ног стояла эта коробка, но она так и не смогла разрезать фото, так она его любила. Она только перегнула снимок пополам.
Фрэнк наклоняется вперед, и руки его вцепляются в колени. Он кажется таким маленьким. Этот высокий холеный мужчина в жилете и туго накрахмаленной рубашке вдруг весь сложился, будто раскладушка.
— Я всегда считал себя праведником, — продолжает Фрэнк все тем же ровным голосом. — Ведь я бывал в церкви каждую неделю. Но я плохой человек. Я не допускал его к тебе. Так я наказывал тебя, ведь ты напоминала мне о нем. Иными словами, обо всем, чего я так и не сумел дать твоей матери.
Я вижу, что Фрэнк обращается ко мне, но не понимаю слов. Я далеко, меня захлестывают образы, и воспоминания, и иные слова, они в каждой черточке загорелого папиного лица. Как давно я не видела папу, его карих глаз, складок на щеках и доброй, сдержанной улыбки! И вот папино лицо меняется, расплывается, отдаляется. Он уже купил себе кожаную куртку и стал по выходным ходить в казино. Именно в тот год они расстались.
— Я виноват перед тобой, Одри. С моей стороны это было подло — не сказать тебе и не передать подарок.
Это Фрэнк. Вдали от меня он что-то говорит и говорит. О чем это он?
— Только я не хотел тебя потерять. Ты была для меня живым воспоминанием о твоей маме — красивая, как она, добрая, как она. Я старался защитить тебя. Как мог. Близнецы тоже. Они всегда считали тебя своей сестрой.
Упоминание о близнецах почему-то возвращает меня к действительности.
— Они относились ко мне, как к сестре? Вот уж не сказала бы. По-моему, я не вызывала у них восторга.
— Нет, нет, не думай так. Они любили тебя. Только они немного завидовали тебе. Ты всегда была значительно умнее их. Ты помнишь их карточные фокусы? Их вольты, мастерское тасование, вытаскивание тузов из середины колоды?
— Помню. Этот фокус не из легких. Чтобы научиться, я ухлопала массу времени.
— Они никак не могли простить тебе, что у тебя получилось. Они этот фокус показывают до сих пор. Каждое Рождество. Перед тем как Марджи подаст пудинг. Приходи, увидишь.
Фрэнк смолкает, поднимает на меня глаза, и в каком-то порыве я бросаюсь ему на шею. Уж не знаю, кто из нас больше удивлен, но я не могу видеть, как он мучается. Мои руки чувствуют, как напряжено его тело. Но потихоньку оно расслабляется — плечи опускаются, руки свободно повисают, потом ложатся мне на плечи. Фрэнк прижимает меня к себе.
— Надеюсь, ты найдешь его. Хоть прошло столько лет, надеюсь, встреча с отцом не слишком разочарует тебя.
— Я тоже надеюсь, — бормочу я, прижимаясь к Фрэнку.
— Может, заглянете к нам как-нибудь? На Пасху или на Рождество?
— Попробуем. Надо бы мне позвонить близнецам.
— Правда? — Лицо Фрэнка светлеет. — Они будут рады.
— Я тоже буду рада, — улыбаюсь я.
Мы с Джо идем по берегу моря. Уже больше часа перед глазами у нас маячат паруса виндсерферов и в ушах стоит шум волн, разбивающихся о кучи грязного песка и гальки. Мы по большей части молчим, можно обойтись и без слов, когда солнышко пригревает и дует легкий бриз. Фотографии папы лежат у меня в сумке. Я всегда подозревала, что она не смогла его разлюбить, но я и не догадывалась, насколько тяжело пришлось при этом Фрэнку. Любить женщину, и жить с ней, и окружать ее заботой, и знать, что все равно ты будешь недостаточно хорош. Ведь душа ее отдана не тебе.
Мы доходим до начала сгоревшего Западного пирса и присаживаемся на гальку отдохнуть. Обугленные и изуродованные конструкции причала (кажется, толкнешь — и все рухнет) все еще противостоят напору волн. Я набираю пригоршню гальки и начинаю считать, сколько камушков у меня под ногами и сколько на всем берегу.
— Как узнать, что смертельно надоел близкому человеку? — неожиданно для самой себя спрашиваю я и обнимаю Джо за талию.
— Ты меня спрашиваешь?
— То есть как обрести уверенность, что человека, с которым живешь, не тошнит от тебя и он не собирается уйти к другому?
Джо высвобождается из моих объятий и ласково щекочет мне шею.
— Я не знаю. — Джо щурится на волны. — Да и ты не знаешь.
— Значит, наверняка не скажешь?
— Нет. Какое там.
С этими словами Джо поднимается с земли, берет небольшой окатанный голыш и кидает в воду. Камешек прыгает по волнам — раз, два, три, — пока хватает энергии. Потом он тонет.
Совсем не то я хотела услышать. Впрочем, так мне и надо. Нечего задавать вопросы, на которые сама не знаешь ответ.
По пути домой мы делаем еще одну, последнюю остановку — у казино рядом с вокзалом, где так часто играл папа. Подростком я, наверное, тысячи раз проходила мимо, но зайти… да ни за что на свете! Зато сейчас мне отчаянно захотелось посмотреть на вертеп изнутри.
Джо остается на улице, а я тщетно пытаюсь убедить швейцара, что, осмотрев помещение, может, тоже захочу во что-нибудь сыграть. Удивительное дело: он все-таки разрешает мне войти.
И вот я в казино. Совсем не так я его себе представляла. Ребенком я думала, что в любом казино полно высоких дам в длинных перчатках и эффектных щеголей в визитках и галстуках а-ля Дэвид Найвен[54]. В них дрожь предвкушения и аромат утонченного порока, они пьют шампанское и курят сигары. На самом деле помещение больше смахивает на контору букмекера. Тут серовато, грязновато, темновато и уныло; в атмосфере чувствуется напряжение; игроков немного, и от всех от них веет какой-то мертвечиной. Вот кучка изможденных пенсионеров просаживает свои сбережения в рулетку. Вот какие-то туристы режутся по маленькой в «двадцать одно». А вот толпа игральных автоматов гундит о чем-то в углу, и лампы их то вспыхивают, то гаснут, словно испорченные елочные гирлянды.
Интерьер не нов, безвкусен и перегружен. Не проходит и минуты, как у меня начинает рябить в глазах. Это все из-за ковров — оранжево-желтых, с зелеными пятнами, словно их соткали из рвоты.