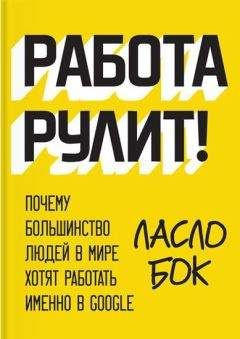– И как же? – с интересом спросила Кира.
Папа отхлебнул простоквашу.
– Говорит, надо много раз подряд повторять набор неких бессмысленных словосочетаний. Лешка с этой целью использует слова еврейских молитв.
– Ох, папа! – вздохнула Кира. – Ты прямо с завистью об этом говоришь. Восхищаешься просветлением, достигнутым по сокращенной программе?
– Да не то чтобы. – Он пожал плечами. – Но в какой-то мере – да, восхищаюсь. Я-то опору нашел куда более незамысловатую. Водка и молодая женщина – этого мне оказалось достаточно для восполнения исчезнувшего фермента.
– Чем тебя эта твоя молодая женщина так уж привлекла? – поморщилась Кира. – В рот тебе смотрит, каждое слово ловит? Ну так и мама смотрела и ловила. И выглядит, между прочим, мама вполне молодо. Если б нервы себе поменьше надрывала, то вообще девочка была бы.
– Мама… – Папа покачал головой и отпил еще простокваши. – Мы с твоей мамой типичный пример того, как неправильная женитьба может не просто отравить людям жизнь, но совершенно ее уничтожить.
– Что уж такого неправильного в вашей женитьбе?
– Все! – Папа быстро допил простоквашу, поставил пустой стакан на облезлые доски балкона. – Сошлись мы непонятно почему, ничего в нас не то что общего, даже схожего не было. Жили в каком-то безумном надрыве. Я, конечно, больше виноват, Лена молодая была, неопытная. Провинциальная, в конце концов. Пару соловьиных трелей – и она моя. И мне это льстило, все-таки она, ты права, собою недурна, особенно в юности была. Что я ее соблазнил, это понятно. Но вот что не остановился вовремя, назад не отыграл, за это мне прощенья нет. Главное, твоя мама всегда была настолько идеальна, что невозможно списывать мое отторжение от нее на какое-то ее личное несовершенство. Вот Гриша Соловьевич мне недавно рассказывал…
Одноклассник Гриша Соловьевич, в отличие от большинства папиных приятелей, да и от самого папы, более чем удачно встроился в изменившуюся действительность: сумел вовремя припасть к нефтяной трубе и сделался олигархом.
– Гриша на домработнице своей женился, на узбечке, знаешь? – сказал папа.
– Не знаю.
Кира невольно улыбнулась: трудно было представить Соловьевича, жесткого нефтяного магната, о котором она не раз писала в «Экономических материалах», знатока средневековой философии и любителя порассуждать о различии между стоиками и схоластами, каким она помнила его с детства, женатым на узбечке-домработнице.
– Представь себе. – Папа тоже улыбнулся. – Жену бросил, любовницу. Говорит: никто никогда мне так в глаза не смотрел, как Гузаль, с таким вниманием, и наконец я чувствую себя искренне любимым. А я себя и всегда чувствовал искренне любимым, и уж что-что, а в глаза со вниманием твоя мама смотреть умеет, и от запоев она меня спасала, и прощала за все и всегда… Но мало этого, вот что я за свою жизнь понял. Мало!
– А чего не мало, папа? – не глядя на него, задумчиво проговорила Кира. Она понимала, что он не врет, не рисуется. Он говорил то, что действительно понял для себя. И это папино понимание было для нее пугающим. – Внимания, ты говоришь, мало, понимания тоже мало… Получается, людей вообще ничто связать накрепко не может?
– Если бы знать!.. – улыбнулся папа. – Откуда это?
– Из «Трех сестер».
Кира улыбнулась ему в ответ. Он мало уделял ей времени, бабушка вечно ему за это пеняла. Но все Кирино детство, всю юность они все-таки играли вдвоем вот в эту мимолетную игру: откуда слова? Память у папы была необъятная, и Кира с радостью путешествовала в пространствах его памяти, отыскивая и распознавая в ней живые ориентиры вроде этих бескрайних чеховских слов: «Если бы знать!..»
Она была сердита на него за то, что он бросил маму, но он близок был ей, весь близок, она понимала его глубоко, до самых уголков его бурного нутра, и даже то, что он бросил маму, было ей понятно.
Она чувствовала его всем своим детством. Сильная это была связь, сильная и непреложная.
А с Длугачем такой связи не было. И быть не могло. Конечно, глупо сравнивать связь, которая возникает у взрослой женщины с мужчиной, с ее детской душевной связью с отцом. Да и никакая связь, присущая твоему детству и всему твоему существу, не может повториться во взрослой жизни, и в связях твоих любовных тоже, и незачем ожидать невозможного. Но что ж поделать, если наградила тебя природа этим ненужным качеством – максимализмом его назвать, что ли? Что поделать, если не можешь ты жить с человеком, который смотрит на тебя с ненавистью из-за того, что будоражат тебе сердце «Охотники на снегу», и не верит, что они правда тебе его будоражат?..
– Я поеду? – неуверенно произнес папа, поднимаясь с балконной ступеньки.
– Как хочешь.
– А ты… – Он помедлил, глядя на Киру.
– Что?
– Ты не хочешь с ней познакомиться?
– С кем? – не поняла Кира.
– С Наташей. С которой я… теперь живу.
– Не вижу необходимости.
– Ты умна и жестокосердна, – вздохнул папа.
– Обычно так и бывает.
– Не обязательно.
– Мне есть в кого такой быть.
– Если только в меня. Про маму говорить нечего, а бабушка при всем ее уме жестокосердной не была. Ну, пока. Не помнишь, во сколько электричка?
Она отрицательно покачала головой. Папа чмокнул ее в макушку и пошел по примятой траве к дороге.
Его слова о жестокосердии все же задели Киру.
«Мы с Длугачем из-за этого расстались?» – подумала она.
Она обо всем сейчас думала через призму своего расставания с ним. Слишком мало времени прошло, чтобы это могло уйти из ее постоянных размышлений.
Ответа она не знала. Может быть, просто не могла уловить его, этот ответ, среди своих роящихся мыслей?
Часть этих мыслей были воспоминаниями. И как только Кира вошла наконец в дом, они обвили ее плотным облаком.
Вот здесь, в большой комнате на первом этаже, ставили рождественскую елку. Бабушка не мешала никому праздновать Новый год, притом не только по европейскому календарю, но и по восточному, однако сама отмечала лишь Рождество, как в семье ее родителей было заведено. Елку украшали не шарами, а ангелами, и весь Рождественский сочельник в дом приходили люди, чтобы читать стихи. Это было ошеломляюще и странно, но сама бабушка ничего странного в этом не находила.
– На Рождество всегда бывали колядки, – говорила она. – Тому осталось миллион свидетельств, у Льва Николаевича – самое яркое. Все пели колядные песни. А теперь пусть читают стихи. Такое у нас колядование.
Сидя у бабушкиной елки, Кира прослушала, кажется, весь мировой поэтический репертуар – среди гостей немало было таких, что читали Верлена по-французски и Киплинга по-английски. Но все же бабушка особенно ценила чтение рождественскими посетителями стихов собственного сочинения. И Кире всегда было ужасно жалко, что она стихов не сочиняет, потому что не умеет складывать рифмы. Можно было, правда, писать верлибры, но бабушка говорила, что это не стихи, а шарлатанство.