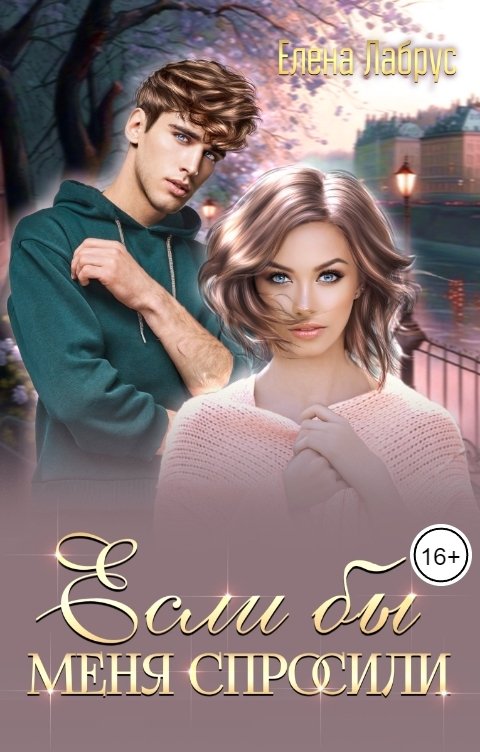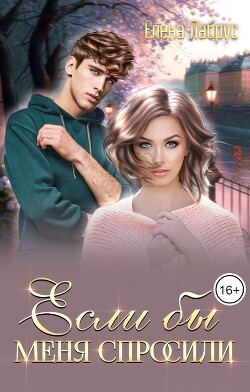как у Петьки, рабочие, но второй обязательно должен быть биометрический.
Она по-гусарски козырнула: вопросов больше не имею. Подхватила тарелки.
— Куда нести?
— На веранду, раз уж решили там, — открыла ей Лиза дверь кухни.
На улице приятно пахло дымком от костра.
Альваро переворачивал на решётке рыбу. Черноглазый красавец Маркос натирал помидорами хлеб, готовил какую-то закуску. У Вадима на плече, как у заправского повара, тоже висело полотенце. Петька с помощью Софии и Аны ремонтировал какую-то лавку.
Смотреть на него было больно. И только.
Ни обиды, ни ненависти, ни жалости Ирка не чувствовала. А боль… есть такой запредельный уровень боли, когда и её перестаёшь ощущать. Когда остаётся только усталость. Смертельная усталость.
Но какая к чёрту усталость! Летние дни в Галисии длятся долго, а выходные — особенно.
И после обеда (это оказывается был только обед) хозяева повезли их по достопримечательностям Ла-Коруньи.
Чьи-то могилы, церкви, монастыри, храмы, ратуши, памятники — всё смешалось в один бесконечный калейдоскоп.
Ирка и до этого не питала слабости к достопримечательностям, но черноглазый красавец Маркос старался, поэтому Ирка терпела его русский, принимала бокалы из рук седобородого Алонсо (взять с собой вино было его лучшим решением за этот день), хотя ей это вино было как слону дробины, и гордо держала спину, хотя больше всего на свете хотелось сесть куда-нибудь и сгорбиться, а лучше лечь и накрыться одеялом с головой.
Она не позволила себе даже держаться за Вадима.
— Деревья умирают стоя, — усмехнулась она, когда он предложил ей руку.
Первой сдалась беременная София. Петька увёз её домой и вернулся.
Потом позвонили Маркосу, черноглазый красавец сказал: «Встретимся вечером» и слинял.
— Мы потихоньку пойдём к машине, — сказала Лиза возле башни Геркулеса, что стояла тут со второго века и считалась старейшим рабочим маяком в мире. И вы поторопитесь, — показала она на небо, что заволакивали тучи.
Альваро пошёл с ней.
А они вчетвером (Ирка, Вадим, Север и Ана) повернули к Крысиному полю, где расстреляли каких-то несчастных повстанцев, а потом возвели в их честь монумент.
— Могу нести тебя на руках, — предложил Воскресенский, когда Ирка с тоской посмотрела сколько им ещё придётся пройти.
— Думаешь, стоит?
— Думаю, да, — уверенно сказал он. — Тебе там понравится.
— Мне? Возле поставленных друг на друга бетонных блоков? — посмотрела она на него с недоверием.
— Угу, — уверенно кивнул Вадик, — ещё и заляпанных красной краской.
Краска потёками на монументе действительно была, символически изображая кровь.
Им даже каким-то чудом удалось уйти от Аны, что не отходила от Вадима ни на шаг.
Ирка сказала бы, что он «нашёл свободные уши» — с таким удовольствием Анька слушала всё, о чём бы он ни рассказывал Воскресенский.
Кажется, ему даже нравилось и немного (а может, и сильно) льстило внимание хорошенькой юной девчонки.
Но Ана с чего-то решила поругаться с Петькой. И Вадим с Иркой оторвались.
Последние метров двадцать он действительно нёс её на руках, и она первый раз за весь день по-настоящему улыбнулась и даже забылась.
Словно не у неё в груди зияла огромная дыра.
Словно не она сегодня нашла, что искала.
Если бы сегодня её спросили, что она хочет сказать человечеству, она бы ответила: прежде чем отправиться на поиски правды, спросите себя, хотите ли вы её знать.
— И что это? — спросила Ирка, когда Вадим поставил её на землю прямо перед камнем с какими-то письменами.
— Федерико Гарсия Лорка, — невозмутимо ответил Воскресенский. — Одно из его бессмертных стихотворений.
— На испанском? — с недоверием переспросила Ирка.
— Да, на родном языке поэта, — кивнул Вадим. — Но я для тебя переведу.
Ветер гнул траву. На горизонте собирались свинцовые дождевые тучи. Перед ними лежал бескрайний океан. Они стояли на Крысином поле.
.
— Крик отбрасывает на ветер тень кипариса.
(Оставьте меня здесь в поле плакать.)
Всё в мире разбито. Осталось только молчанье.
(Оставьте меня здесь в поле плакать.)
И горизонт во мраке, костры его обгрызают.
(Я же сказал, оставьте меня здесь в поле плакать.)
.
— Круть! — Бойко захлопала в ладоши Ана. — Ты правда это перевёл или знал наизусть?
Что ей ответил Вадим, Ирка не услышала. Да, если бы и услышала, не поняла — он говорил с ней на испанском.
Ветер уносил слова, а смотрела она не на Вадима, а на Петьку.
— Вижу у вас с Воскресенским всё хорошо? — улыбнулся он. Но скорее вымученно, чем с усмешкой. От того непроницаемого выражения лица, за которым он так удачно спрятался на пристани, не осталось и следа. Он был как на ладони — виноватый, подавленный, несчастный.
— Да, всё прекрасно, — усмехнулась Ирка. Вадим уводил Ану к менгирам — каменным валунам с другой стороны поля, давая им с Петькой поговорить. — Не так хорошо, как у вас с Софией, замуж за него я не вышла и даже не собираюсь. Но да, у нас всё хорошо. Мы друзья.
— Ир, — подошёл к ней Петька. — Ир! Ира!
Потянул к себе. Обнял. Крепко-крепко.
Она обхватила его за шею. Ткнулась носом куда-то в ухо. В тёплую кожу. В запах волос. В родное. Любимое. Её.
И не было сил, чтобы это сказать.
И не было слов, описать, как он ей важен. Нужен. Как сиротливо пуст этот мир без него.
Но уже ничего не исправить. Не искупить. Не загладить. Не отмолить.
И не рассказать, как долго она его искала! Как ждала! Как потеряла и как искала. Как бесконечно долго к нему шла. Как нашла. И как закончилась эта история. Их история.
.
Оставьте меня здесь в поле плакать.
.
— Какой же ты дурак, Север, — выдохнула Ирка.
Слёзы жгли глаза. И текли, текли, впитываясь в его рубаху.
— Я знаю, — плакал Петька.
— Ты мог бы мне просто сказать, что нашёл другую. Я бы поняла. Ну подумаешь, возненавидела бы тебя маленько, выгнала, прокляла. Тебе не привыкать.
— Не привыкать. Но я не мог, — покачал он головой. — Мне нечего было тебе сказать. Ничего нового. Я люблю тебя, Ир. И всегда любил. И всегда буду любить. Только я сглупил. Единственный раз сглупил и мне не отмолить этого никогда, моли я тебя