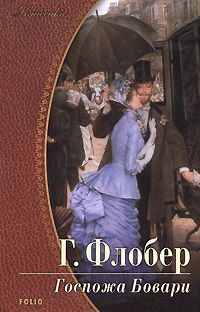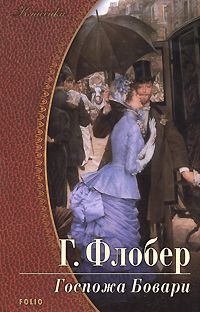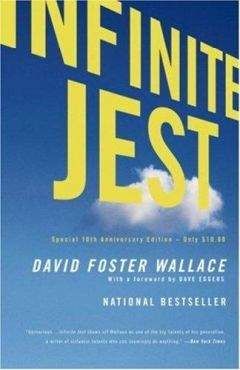Про себя я читала эти строки Волошина (особенно нравилось мне про судороги), как вдруг мерзко зазвонил мобильник. С непередаваемым раздражением я узрела на экране номер Антуана. В нашем Центре принято не помнить о том, что сотрудник в отпуске. «Не хватало ещё с тобой на Карадаге базарить», – подумала я, решила не отвечать и продолжила любоваться видом скалы Чёртов Палец, которая с левой стороны напоминала не заявленную в названии часть тела беса, а симпатичного слона.
Минут через пятнадцать я поняла, что совесть мешает мне наслаждаться феерическим видом на Коктебель. Набрала смс: «Я в горах, говорить не могу, пиши, если срочно». Получила в ответ вот что: «Греческому герою (читатель, конечно, понимает, что там значилось имя) очень понравился твой урок. Он просит тебя продолжить с ним. Согласна?»
Первая реакция: «Ничего себе… только мне такой радости не надо!». Вторая мысль: «Но… так близко от дома!» Третья идея: «Сам просит и время удобное и… может, он не такой уж противный». Соответствующая смска отправилась к Антуану.
Поход на Карадаг закончился спуском по живописной и качественной военной дороге. В тот год распустилось много крупных ярких горных пионов. Их розовые пятна то и дело возникали среди зелени, похожие на большие цветы из гофрированной бумаги.
Через пару дней мы совершили восхождение на могилу Волошина. Для того чтобы добраться туда, нужно миновать набережную, которую муж назвал смесью трущоб и помойки. Поразительно, как люди, живущие среди роскошной природы, так и не обретают вкуса к красоте, возводя безобразные сараи прямо на побережье. Будто прелесть пейзажа невыносима им настолько, что они стараются отгородиться от неё с помощью бараков, закрывающих вид на горы и море. Среди уродства и грязи апофеозом являлось кафе «Уют» – серое безобразное строение с облупившейся штукатуркой.
К счастью, всё когда-то заканчивается, в том числе и ранящая чувствительные души набережная Коктебеля. Из мира мусора и антиэстетизма вы резко попадаете в романтическую Киммерию. Она начинается оврагом, благоухающим так, что может начаться головокружение. Калина, шиповник, таволга, асфоделины, жасмин, зверобой и мириады маленьких душистых цветов и трав ликуют, посылая в небеса дурманящие ароматы.
Могила Волошина находится на вершине. Величественный и немного инопланетный вид на голубые коктебельские горы открывается перед теми, кто туда добрался. Карадаг, залив, мыс Хамелеон, поросшая кудрявой шапкой леса Святая гора, длинная плоская словно проглаженная утюгом гора Узун-Сырт, от названия которой веет чем-то толкиеновским. Утончённый запах полыни действует удивительно благотворно. Мягко колышется ковыль. В таких местах люди ощущают себя частью космоса, а Вселенная ведёт с ними свой не всегда понятный разговор. Практикующему медитацию не найти лучшего места. Оттуда не хочется уходить, а лишь смотреть и смотреть на эту вечную панораму.
Если вернуться к посёлку, то положительное изменение всё же есть. Состоит оно в том, что дом Макса наконец-то открыт и каждый день вы можете зайти к нему, подышать старым деревом, полюбоваться чуть выцветшими акварелями и бюстом Таиах. Много теперь гостей в Коктебеле, но вряд ли их контингент пришёлся бы хозяину Дома по душе.
Мы сделали попытку прогуляться по вечерней набережной. Тут я вовсе не стремлюсь идеализировать советскую интеллигенцию. В массе своей она была достаточно убога. Однако в компании писателей, их нафуфыренных жён и других советских граждан, отдыхающих неподалёку в пансионатах попроще, можно было чувствовать себя спокойно. Увы, те изысканные курортники остались в прошлом. В нынешние времена набережная наводнена быдловатыми личностями, превратившими её в место алкогольных возлияний. Вместо мастеров поэзии слух терзают мастера матерных конструкций. Вместо поэта Волошина по посёлку бродит полусумасшедшая женщина. На ней венок и балахон, как и на Максе, и в неприемлемой для советской цензуры стихотворной форме она за небольшую мзду предлагает отдыхающим букеты, от запаха которых согласно её обещаниям «будешь трахаться каждый день». Со второго этажа бывшей столовой Литфонда раздаётся выносящий мозг грохот. Это мелодия, зазывающая в суши-бар. Последний занял место библиотеки, наполненной когда-то душевным ароматом старых книг. По набережной снуёт туда-сюда орда полупьяных дикарей, но окончательно подорвал мои моральные силы аттракцион, где предлагалось метать сырое яйцо в живую человеческую голову, всунутую в фигуру доисторического человека с автоматом. По окончании моциона муж объявил, что если ад существует, то он должен выглядеть именно так, и патетически добавил: «Трагедия Коктебеля в том, что курорт интеллектуальной элиты превратился в место для выродившегося плебса». С этим не поспоришь, даже если очень захочется.
И всё же, несмотря на описанные ужасы, я испытала наслаждение от жизни в Коктебеле с его неожиданными туманами, прозрачными халцедонами, вечными собаками-попрошайками и чудаковатыми обитателями. Одного из них мы окрестили «фавном». Он бродил по дорогам в красной набедренной повязке, с выгоревшей на солнце копной нечёсаных волос. Часто его можно было видеть поедающим где-нибудь придорожную шелковицу.
Было жаль покидать их, не зная, увидишь ли ещё столь разноцветное море, как по дороге в Тихую бухту, когда вода то жёлтая, то красная, то кобальтово-синяя, положишь ли на тёплую могильную плиту Волошина традиционную гальку, собранную напротив его дома, прижмёшь ли к лицу свежесорванный пучок полыни?
Но, невзирая на тихую печаль расставания, я всегда возвращалась из Крыма обновлённой. Уже через день по приезде в Москву я была на работе и слушала, как Шустрый увлеченно вещает что-то про «собачью продукцию». Он не ругался, а спутал «chien»14 и «Chine»15.
Около половины четвёртого я отправилась в офис возле театра. На мне было серое платье в белый цветочек, на мне был крымский загар, и волосы ещё пахли морем.
Когда он появился, я не узнала его… Будто вошёл другой мужчина. От двери он не мог заметить, что я на него смотрю. Он не походил на себя, потому что столько нежности и тепла светилось в его глазах, такая мягкость и доброта исходили от лица, что это просто не мог быть тот надменный молодой человек, который ни разу не улыбнулся за полтора часа нашей последней встречи. Впрочем, он не улыбнулся и в этот раз. Описанная сцена длилась пару секунд, после чего герой молниеносно вернул отлично знакомую мне равнодушно-высокомерную маску и не снимал её в течение всего урока. Занятие прошло почти столь же холодно, как и предыдущее, хотя я очень старалась быть любезной.
Так продолжалось около трёх недель. Он оказался прилежным студентом, делал всё, что я просила, и всегда говорил по-французски, хотя зачастую ученики идут по пути наименьшего сопротивления, сбиваясь на родной язык, если им что-либо непонятно. Помню, как один странный индивид на мои вопросы порой отвечал встречным: «А можно я это скажу по-английски? Я по-английски знаю!» Прошло уже немало лет с тех пор, как наши занятия с ним прекратились, но я так и не могу взять в толк, для чего он регулярно адресовал этот вопрос преподавателю французского.
Зато мой новый студент выполнял даже домашние задания (вещь практически нереальная, если имеешь дело со взрослыми работающими людьми). Однажды я задала на дом перевод. Мой герой спросил: «Могу я прислать вам это упражнение по почте?» Ну, разумеется, вы можете. Задание пришло вместе с мило написанным по-французски вопросиком: «Как вы проводишь выходные?» Добросовестно исправив ошибку, я описала, что гуляла с подругой в ботаническом саду, восхищаясь красочным цветением летних растений. «Как романтично!» – ответил он. Вообще-то я гуляла с подругой и мужем, который по непонятной причине не был мною упомянут.
За прошедшие недели я узнала, что античный атлет выделяется на фоне других учеников не только красотой. Он знает, кто такие Шостакович и Ле Корбюзье. Он смотрит фильмы фон Триера, он даже читает книги. Всё вышеперечисленное не так уж часто встречается, в том числе и среди людей с высшим образованием, работающих в престижных компаниях. Так, одна крупная начальница недавно сообщила мне, что Мольера зовут Вольфганг Амадей.
За интеллектуальными открытиями последовали другие. Я обнаружила, что новый ученик часто заинтересованно смотрит на меня. Особенно в район бюста. Не каждая женщина при росте сто пятьдесят восемь сантиметров и сорок четвертом размере одежды имеет четвёртый размер груди. Кажется, это порой мешало ему заниматься. При изучении частей тела я, конечно, сообщила, как называется женская грудь, потому что у франкофонов для этого существует отдельное слово. Взгляд моего героя сделался настолько выразительным, что мне захотелось быть одетой во что-нибудь похожее на скафандр или на худой конец в балахон для мусульманок.