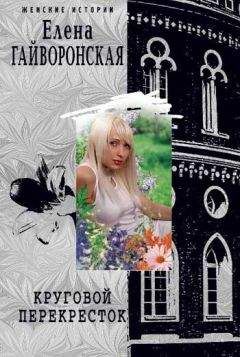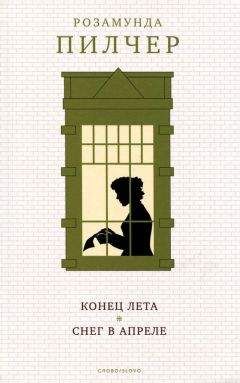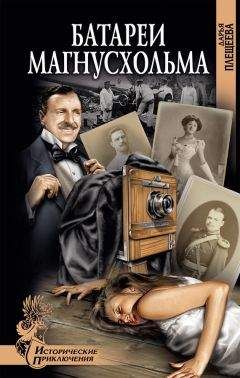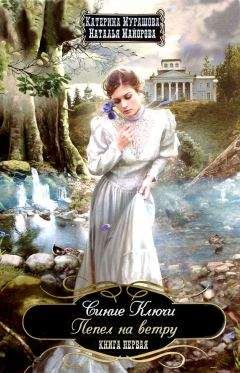– Что значит репрессировали? – повторила я. Если я слышала новое слово, непременно должна была узнать значение, даже если приходилось перерывать словари.
– Я тебе потом объясню, – пообещал дед и переменил тему: – Видел Петра.
– Как он?
– Неплохо для наших лет. Жалуется на радикулит.
– Ха, – сказала Мария Ивановна. – Его болезни – наше здоровье. Чтоб нам всем не иметь болячек страшнее. Как там Тамарка?
– Тоже на здоровье пеняет.
– Да эту лошадь ломом не сшибешь, – припечатала Мария Ивановна. – А Клара?
– Процветает.
– Торговка, вся в мамашу, – отрезала Мария Ивановна. – Петя всегда был хорошим мальчиком, но бесхарактерным, вот Тамарка на себе его и женила…
– Чего говорить, вся жизнь прожита, – отозвался дед.
– И то правда, – согласилась Мария Ивановна.
Они часто спорили, но быстро приходили к согласию.
– Как Дуся? – спрашивала Мария Ивановна про мою бабушку Евдокию.
– Спасибо, нормально. Передает тебе привет.
– И ты ей передавай.
Почему-то мне казалось, что бабушка и Мария Ивановна не жалуют друг дружку. Наверное, потому, что они были очень разными, и вместе им было неинтересно, как мне с приезжими детишками или троюродным братцем Глебом. Взрослым везет: у них есть выбор, с кем – общаться, с кем – нет, а с кем – обмениваться приветами на расстоянии. Их никто не хватает за руку, не запихивает в душное метро, не читает нотации о том, как надо себя вести в гостях, ехать в которые хочется не больше, чем отправляться в школу после каникул.
Родители деда Георгия были мелкопоместными дворянами. Не Шереметевыми, конечно. Но имели имение где-то в Липецкой губернии. Род якобы брал начало от некоего Александра Соколова, отличившегося при Петре I в войне со шведами. Быть может, это всего лишь легенда, из тех, которые существуют в каждой семье. Но мне хотелось верить, что именно от воинственного предка я вместе с именем унаследовала «трудный» бойцовский характер, упрямство, порой переходящее в упертость, силу воли и толику агрессии – качества, делающие привлекательными мужчин, но отнюдь не украшающие женщин.
Отец Георгия, Иван Федорович Соколов, служил в царской армии и погиб в восемнадцатом в вихре Гражданской войны. А вскоре пожаловала новая власть и велела его жене, Лидии Владимировне, и пятерым детям, младшему из которых не исполнилось и года, освободить родовое имение. Поначалу Лидии и детям выделили две комнаты в их собственном доме. Большую же часть занял бравый комиссар. Первое время Лидия мирно уживалась под одной крышей с новой властью, комиссар явно благоволил к красивой вдове, угощал малышей сластями и обещал свозить в Москву показать Ленина. Но однажды темной ливневой ночью изрядно хмельной сосед стал ломиться к Лидии и громко требовать любви. Лидия дверь не открыла, раздосадованный комиссар, грязно ругаясь, удалился ни с чем. А наутро потребовал, чтобы Лидия либо стала его женщиной, либо убиралась вон вместе с выводком.
Лидия молча отправилась собирать вещи. Незадачливый кавалер стоял в дверях и зорко наблюдал, чтобы женщина не прихватила ничего, что могло бы потребоваться новой власти. Лидия все же исхитрилась спрятать шкатулку с драгоценностями в узле с детскими вещичками. В последний раз оглянулась на родной дом, до крови прикусила губу, чтобы скрыть навернувшиеся слезы.
– Может, передумаешь? – крикнул вслед комиссар.
Но Лидия не оборачивалась. В Москве она надеялась найти правду. Надеждам не суждено было сбыться: после ее молчаливого ухода бравый комиссар с товарищами учинили грандиозную попойку, закончившуюся пожаром. Деревянный дом полыхнул, как стог сена, и погреб под горящими обломками представителей новой власти.
Страшной дорогой до Москвы Лидия потеряла дочь, Оленьку. Слабенькую, болезненную девчушку свалила пневмония. Потом были вокзалы, подвалы, улицы, грязные ночлежки… Однажды в приемную к самому наркому просвещения Луначарскому после краткого скандала вошла растрепанная, худая, прямая как жердь женщина с лихорадочно горящими глазами на белом лице, в некогда дорогом, из французского облегченного драпа, пошитом по моде позапрошлого сезона, изрядно замызганном пальто, растоптанных туфлях и объявила, что не сойдет с места, пока не увидит начальника. Позади жались друг к дружке четверо измученных полупрозрачных ребятишек. Нарком женщину принял, выслушал, поселил в барак и дал направление на работу – школьной учительницей. Про прошлое велел помалкивать, а еще лучше – вовсе позабыть, как сон невероятный и бесполезный.
И Лидия позабыла. В грязном деревянном бараке на двадцать семей, с печным отоплением, общей, облюбованной тараканами кухней, загаженным клозетом она начала новую жизнь. Во дворе, где бессменно, зимой и летом, флагами реяли длинные ряды плохо простиранных грубым хозяйственным мылом простыней и подштанников, на кишащей тараканами закопченной кухне, среди ора и мата, пьяных дебошей, бурных выяснений отношений на кулаках, иногда до поножовщины, Лидия поднимала уцелевших детей. По ночам, под коптящей соляркой лампой, правила школьные сочинения, штудировала новые учебники, готовясь доказывать неоспоримые преимущества самой справедливой власти в мире. Коротко постриглась, чтобы не тратить лишнее мыло и горячую воду, научилась курить дешевые вонючие сигареты, при необходимости материться, виртуозно загибая такие конструкции, что простые работяги из соседних клетух прониклись к «училке» невольным уважением. Нежные когда-то ладони взбугрились мозолями. В уголках сухих обесцвеченных губ прорезались строгие морщины. От прежней Лидии сохранилась лишь царственная осанка, привычка принимать пищу непременно ножом и вилкой против пролетарской вилки на все времена. Да еще взгляд… Особенный, гипнотический… Лидия умела выразить взглядом весь спектр человеческих чувств, не прибегая к словам, не издавая ни единого звука. Она вообще говорила мало, предпочитала дела разговорам, и потому каждое ее слово казалось важным, весомым. Лидия не жаловалась, не плакала, не выходила к общему кухонному столу пропустить стопочку за праздник. У нее не было ни друзей, ни врагов. Виртуозно умела держать дистанцию, мысленно прочертив границу, заступать за которую не дозволяла никому. Учительницей Лидия оказалась от Бога, которого в то время поминали лишь шепотом. Малыши ее обожали, родители уважали, даже трудные разбитные подростки, в подворотнях смолившие «Беломор» и втихаря пробовавшие горькую, завидев Лидию Владимировну, торопливо прятали бычки, прекращали материться и не спорили, когда строгая русичка заставляла заучивать нудные правила и переписывать диктанты. Если просили помощи, Лидия не отказывала, составляла полуграмотным соседям письма, жалобы, прошения, а те, в свою очередь, благодарили привезенной из деревни картошкой, колкой дров, холостой сосед-шофер подбрасывал вместе с детьми до работы на грохочущем грузовике, невольно заглядываясь на тонкий профиль и точеную фигурку учительницы. Лихие годы, вытравившие блеск из ее глаз, стеревшие нежность щек, изничтожившие мягкость губ, аромат волос, все же не уничтожили до конца следов ее ускользающей несовременной красоты, которая, казалось, должна была скрыться под обломками рухнувшей империи. Хрупкость узких плеч, тонкость длинных пальцев, осиная талия, призрачная бесконечность, отраженная в глазах, невероятно огромных для острого бледного лица, – все это будило в неуклюжих загрубелых работягах желание оберегать их обладательницу от грубости и жестокости мира, в котором она была чужой, лишней, одинокой. Но Лидия твердо и непреклонно пресекала неумелые ухаживания – ее сердце выгорело дотла. Дети – единственное, что осталось в напоминание об отнятом счастье. Дети истинной любви, они тоже несли в себе гордую утонченную красоту рода Соколовых. И если старшие, Вася, Жорка и Маша, уже переживали подростковые годы, тянулись, сутулились, временно превратившись в гадких утят, самый младший, Петенька, белокурый, кудрявый, с пленительными ямочками на тугих щечках, еще походил на рождественского херувимчика.