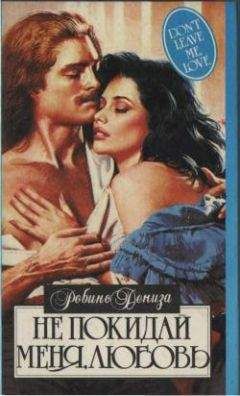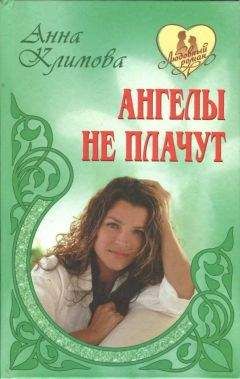С типом в смешном галстуке-бабочке столкнулась только в буфете. В прямом смысле. Он вылил на себя чашечку кофе, которую пытался пронести сквозь толпу коллег. Ире, виновной в том, что оказалась у него под рукой, стоило больших усилий не рассмеяться, таким несчастным был вид ее рыцаря.
— Боже! — сказала она. — Извините! Правда, я не хотела!
— Это моя вина, — ответил он. — Я неловкий.
Простые слова. Он действительно был неловким, нелепым, застенчивым и… казался Ире слегка придурковатым. Странно было видеть человека, не занятого проблемой делания денег из воздуха и не знавшего ни одной фамилии депутата Госдумы. Такой чистенький, домашний, с нелепым галстуком-бабочкой в мелкий горошек. Она была сыта по горло литературными фриками и безбашенной московской тусовкой, поэтому Леня стал необходим. Разница в десять лет Иру не пугала. Она не считала себя красавицей и такой уж умницей, чтобы надеяться на нечто, похожее на журавля в небе.
Ира никогда не носила розовых очков, поэтому увидела и поняла все и сразу. Особенно после обеда у его родителей в чудовищной «сталинке». Она не знала только, как много Леня проявил упорства и упрямства ради того, чтобы ее приняли в семью. Возможно, единственный раз за тридцать четыре года своей жизни. Он никогда не был женат. Он ни с кем, кроме родителей, никогда не жил. Это был тот тип мужчин, которые обычно оставались холостяками, не в силах вырваться из теплого родительского гнезда.
Ко времени того знаменательного обеда у старших Заботиных, на котором Леня объявил о помолвке, Ира потеряла работу в журнале. Как, впрочем, и большую часть халтурок-подработок. В конце 1998-го, в начале 1999-го люди вылетали с работы пачками. Заботиных, казалось, мало волновали все эти передряги вне стен «сталинской» высотки. Старший Заботин продолжал писать и издавать свои философские труды, а младший все так же работал в своем институте (разве что благодаря Ириной протекции ему доставались в одном из издательств переводы латиноамериканских писателей, входивших в моду). У Заботиных красная икра как была к завтраку на столе, так и осталась. Нежнейшие фирменные тефтели и гороховый суп как подавались у них со времен Брежнева на обед, так и продолжали подаваться при Ельцине. В квартире Заботиных время, казалось, не имело власти. Отсутствие перемен, вечное спокойствие, невозмутимость и строгие правила походили на ту самую точку опоры, в которой Ира нуждалась. И долго не раздумывала, когда Леня предложил пожениться и переехать в его комнату в квартире родителей.
Ваня родился весной 2000-го. Виктория Павловна и Олег Иванович не произнесли ни слова упрека, не возмущались из-за того, что жизнь в квартире с появлением ребенка изменилась. Напротив, всячески помогали деньгами и связями, когда Ваня тяжело болел. Ира иногда со слезами думала о том, что попала к святым людям, а иногда — что к самым странным на свете. Бабушка и дедушка предоставили молодую семью самой себе: не лезли с советами, не устраивали скандалов из-за ночного плача ребенка. Но в то же время никогда не гугукали над колыбелькой и не проявляли того оправданного интереса и внимания к внуку своего единственного сына, которые отличали многих и многих бабушек и дедушек на этой земле. То была странная терпеливая добросовестность, замешанная на сдержанности, которую кто-то, возможно, принял бы за равнодушие. Такое отношение можно было понять, особенно зная «механику» семьи Заботиных, но принять сердцем было трудно. И Ира не приняла. Что-то нечеловечески выхолощенное было в квартире старших Заботиных и в их жизни. Словно они когда-то написали пьесу, оформили сцену-квартиру и годами играли свои роли, избегая интерпретаций и перемен. Это было совершенно непонятно для Иры. И когда через два года после рождения Вани отошла в мир иной дальняя родственница Заботиных, оставившая им в наследство квартиру, Ира почувствовала себя чуть легче. Спокойнее.
Ко времени переезда родилась Вероника. Ира привыкла к роли домашней хозяйки, хотя днем, когда дети спали, и нередко ночами корпела над текстами, помогая Лене. Сама искала себе подработку в редакциях и издательствах. Денег, конечно, всегда недоставало, но своя квартира в районе Дмитровки как-то повышала градус удовлетворенности жизнью и примиряла со многими вещами. Некоторых город просто выплевывал, не пережевывая. Кому-то ломал судьбу. Кого-то заставлял жить не так, как мечталось.
Ира считала, что ей повезло.
Единственная неприятность — двоюродный братец мужа Виктор, странный сынок младшей сестры Виктории Павловны…
Виктор
Жить — сплошная скука, повторение пройденного. Он это понял давно. Еще в детстве. Удивительно хорошо помнил тот миг, когда эта отчетливая мысль посетила его, четырехлетнего «засиканца». Мать поставила перед ним ту первую ненавистную тарелку супа, которую он запомнил на всю жизнь. И не выпустила из-за стола, пока он, спустя два скучных часа, в соплях и с лицом, мокрым от слез, не оставил на дне тарелки холодную лужицу с одиночными рисинками и ошметками мерзкого лука. Потом таких тарелок с супом было много. И каждый раз надо было дождаться появления на дне сказочного идиота — Емели-дурака, державшего в расписных рукавицах волшебную щуку с открытой в жалобном вопле пастью. Суп поедался всегда скучно и долго. Всегда с бранью матери и подзатыльниками.
Суп в тарелке с идиотом прочно ассоциировался у Виктора с неистребимой скукой жизни вообще. Спасением от нее были разыгрываемые его фантазией сценки. Конечно, когда он оставался на кухне один.
«Удушу, гадина, — бормотал маленький Виктор за Емелю-дурака, слабо видневшегося, например, под борщом. — Ты мне всю жизнь поломала!»
И тут же пищал тонким голосом за волшебную рыбину: «Ааа! Родненький, любименький, пощади! Не убивай! Что хочешь, сделаю!»
«Сожри этот суп, сволочь, или разорву попу на британский флаг!» — угрожал «Емеля».
«Зараза! — кричала мать из комнаты. — Ты там ешь или херней страдаешь, засиканец?!»
Много лет спустя Виктор с приятным мстительным чувством «случайно» уронил эту тарелку на пол.
«Кокнул! — констатировала сдержанно Наталья, прибыв на шум и осмотрев осколки. — Последнюю из комплекта бабкиного. Поздравляю. Еще я из нее в детстве супчики хлебала… Ничего от жизни моей не оставили. Спасибо».
Даже если мать жаловалась на что-то, ее не было жалко. Как-то у нее так странно получалось. Не жалко! Все равно что пнуть слона, который (и ты в этом совершенно уверен!) все равно ничего не почувствует. Да и вообще о чем бы она ни заводила разговор, Виктор испытывал или скуку, или тревогу. А когда повзрослел, слова и поступки матери начали вызывать в нем еще и легкое раздражение, а иногда — снисходительно-ироничную жестокость, каковую он маленьким изображал в роли Емели по отношению к щуке, вытащенной из воды и потому бессильной. Наталья больше не могла его заставить что-то делать не только потому, что он «вырос лбом здоровым», но и потому еще, что натыкалась на его необоримое, лихое упрямство. Она поборолась бы. Ох как поборолась бы (вспышки такого желания еще оставались в ней)! Однако в большинстве случаев ее запала хватало теперь только на ругань.
Виктор не старался ее понять. Никогда. Можно было пытаться понять то, что вызывало интерес. Или любопытство. Скука для этого не годилась. Это двигатель с обратной тягой. Хотя двигатель — синоним движения, а в его отношениях с матерью установился тот мертвенный штиль, который скрывал под собой давнюю обоюдоострую неприязнь, счастливо уравновесившуюся сознанием необходимости жить под одной крышей.
Жить вдвоем им не нравилось. Давно бы разъехались, но на размен требовались деньги. А их недоставало даже в лучшие времена, когда в квартире обитал отец, а тетка, сестра матери, подкидывала деньжата. Однако сестры разругались, а папаня ушел из семьи, создав другую и, естественно, уведя из скудного бюджета свою зарплату. Виктор даже позавидовал той легкости, с какой родитель переменил жилплощадь и семью. Ушел он, правда, недалеко — в новостройку через дорогу. Но все ж лучше, чем оставаться в ненавистной двушке с совмещенным санузлом и с нелюбимой женой…