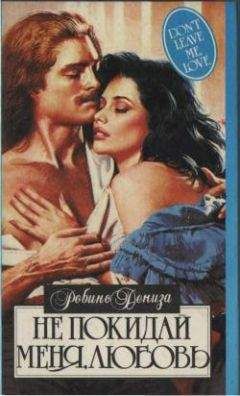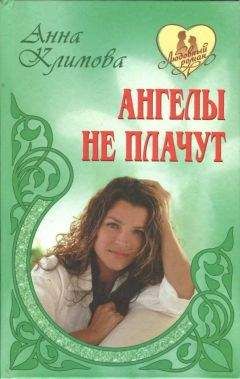Воспитание детей было той самой жизненной неожиданностью, к которой некоторые люди оказывались не совсем готовы. В юности Ире маленькие дети представлялись милыми, забавными существами, которых надо кормить, купать, переодевать и время от времени успокаивать. Так все и было, в принципе. С той лишь разницей, что первенец Ваня первые три года непрестанно болел и пугал всю семью. Потом появилась Вероника. Опыт, приобретенный с Ванечкой, оказался бесполезным в отношении дочери. Она орала беспрерывно до судорог. Если Ваня успокаивался от покачиваний, то Веронику те же самые покачивания-укачивания выводили из себя. Опытным путем было установлено, что умиротворяли малютку только поглаживания по спинке. И то не всегда это срабатывало. В следующий раз надо было поглаживать животик и целовать пяточки. Вероника капризничала по любому поводу и в любое время. Одна погремушка могла привести ее в восторг, а другая вдруг становилась причиной ужаса и истерического трехчасового плача. Сегодня ей нравится эта каша, а завтра от нее уже тошнит и вообще свет не мил.
А когда оба повзрослели, каждый день стал казался битвой. Битвой умов. Ира не переставала удивляться, как быстро дети учатся жить, интриговать, привирать, прятать результаты шалостей, требовать, манипулировать для достижения желаемого, любить и ненавидеть, конечно. Однако приходилось воспитывать не только их, но и саму себя. Надо было уметь отличать настоящие проблемы от тех, которые дети способны разыгрывать с наивным артистизмом. Учиться спокойствию и третейской справедливости. Эта наука давалась с шишками в довесок. Она до сих пор не могла простить себя за один случай, когда от нее крупно влетело Ване вместо злорадствующей и, как потом оказалось, кругом виноватой Вероники. Прямодушный и упрямо-обидчивый Иван очень отличался от своей вертлявой, неугомонно-стремительной интриганки сестры. И оба дитяти иной раз словно задавались целью перевернуть весь дом вверх дном. Их ссоры по десять раз на дню воспитали в Ире ангельское терпение и настоящий иезуитский талант все разруливать ради одного часа покоя. Впрочем, если бы не суетливая заботливость Лени и не его телячье мягкое спокойствие, Ира точно свихнулась бы.
Она всегда считала, что ей недостает здравомыслия, а это очень важно в жизни. Здравомыслие — удобная веревочка, которая никогда не подведет. Был в ее жизни один сумасшедший момент, но вспоминать о нем Ира не любила, потому что… он слишком походил именно на сумасшествие.
Леня ей нравился. Она испытывала симпатию к нему за спокойствие, тактичность и деликатность. А еще за то, что Леня всегда знал, когда говорить, а когда молчать. Во всяком случае, он этому научился за тринадцать лет брака. Он был из хорошей, прилежной, аккуратной семьи, в которой бывшая балерина и писатель, дружно старившиеся в пятикомнатной «сталинке», жили по простому распорядку, не менявшемуся десятилетиями. Иру очаровывали семейные обеды Заботиных. Свекровь всегда накрывала стол крахмальной скатертью без складок, сервировала старым семейным фарфором и серебром. Суп вносила в чудной белоснежной супнице, из которой, словно орудие, торчала ручка поварешки.
— Не горбись, пожалуйста! Умоляю, не ставь локти на стол! — так обычно начиналась для Лени трапеза в родительском доме. На лице его мелькала тень смущения, после чего он непременно краснел и выполнял указания матери. Ира деликатно прятала мимолетную сочувственную улыбку под крахмальной салфеткой свекрови и продолжала вкушать фирменный гороховый суп Виктории Павловны. Он был тоже великолепен.
Правила этой семьи вполне устраивали Иру. И в первые три года, когда пришлось жить с родителями Лени, она хорошо их усвоила и совершила практически невозможное — ее, казалось, приняли «в дом». Ира узнала это, став случайно свидетельницей разговора свекрови с кем-то по телефону. «Она — лучшее, что мог выбрать мой Леня» — таково было резюме свекрови, если в общих чертах.
Церемониями и педантичной чистотой, которую наводила Виктория Павловна целыми днями, Ира поначалу не тяготилась, выполняла свою часть работы по дому с такой же точностью, проворством и аккуратностью. Такой мир ее какое-то время устраивал. Как противовес миру мачехи, в котором было все, что угодно, но только не покой, порядок и размеренность.
Подруга Таисия была у них пару раз, промучилась, извелась и существенно сократила программу визита. «Извини, но я к вам больше не ходок. В морге веселее, чем у вас», — сказала она потом. Татка не знала, что такое жить с мачехой — глупой истеричной бабой, окончательно съехавшей с катушек после того, как умер Ирин отец. Наверное, мачеха его любила. И держалась, пока тот был жив. А потом не то что о падчерице, но и обо всем на свете забывала в пьяном угаре. Дом родителей Лени был воплощением благоразумия. Это привлекало. Ира хотела стать частью этой спокойной размеренности и порядка, которых не знала в своем детстве и юности. На ежедневной церемонии чаепития в пять часов дня Заботины оказывались за столом, тихо беседовали, что-то обсуждали, интеллигентно прихлебывая из своих чашек, и даже если бы мир рушился и летел в тартарары, все за этим столом и в этом доме было бы неизменно и невозмутимо.
Иногда она ловила себя на мысли, что вряд ли согласилась бы выйти замуж за Леню, не будь у него такой семьи. И пугалась этой мысли, потому что ничего общего с любовью она не имела. А Ира хотела любить его. Леня был воспитан, в каких-то вопросах по-детски робок, уступчив, незлобив, не глуп и не пригибал к земле звериной маскулинностью, сходной с повышенным атмосферным давлением, не позволявшим свободно вздохнуть.
Леня долго и деликатно ухаживал за ней. Вероятно, как его учили или он сам где-то вычитал. В этой старательности было что-то милое, давнее, не из нынешних времен. Иногда он напоминал Ирине теленка, ждущего, чтобы его почесали меж едва видных рожек. В такие моменты она смотрела на Леню с нежностью и действительно испытывала желание прикоснуться к его светлой макушке, на которой уже угадывался зародыш будущей лысинки.
От матери ему достались изящные руки, светлые волосы, небесно-голубые глаза и незлобивая ироничность, от отца — склонность к полноте (которая могла со временем перерасти в проблему), привычка краснеть и благородный профиль со слегка капризным изгибом губ, с которых никогда не слетали нечистые ошметки соленых словечек.
Ира обожала обнимать Леню и видеть, как он краснеет. С ним было комфортно. Кто-то находил его занудой и увальнем. Но кто без недостатков?..
Муж уехал к родителям и опоздал к ужину. Пока дети украдкой толкали друг друга под столом и вяло жевали блины, Ира позвонила ему на сотовый. Когда аппарат отозвался размноженным женским голосом, решилась набрать домашний. Трубку сняла, конечно, Виктория Павловна.
— Леня здесь, у нас, — произнесла свекровь ровным голосом, в котором никогда нельзя было угадать ни любви, ни ненависти.
— Мы ждали его к ужину…
Молчание.
— Вы не могли бы передать ему трубку? — попросила Ира, приучившая себя не удивляться при разговоре с родителями мужа.
— Может быть, позже. Он спит, — из трубки сочилась квинтэссенция благопристойной вежливости. — Как дети?
Вопрос Иру позабавил.
— Все хорошо. Едят блины, — ответила она просто, подливая Веронике чай одной рукой и глазами требуя прекратить баловство за столом. — Ждут отца.
Свекровь жила в одном с ними городе, но каждый свой визит обставляла так, как это делала, вероятно, английская королева в зарубежных вояжах. Для самих же детей поездка с ночевкой к бабуле и дедуле воспринималась как бесчеловечное наказание, превышавшее меру всякой вины.
— Да, я понимаю, — прошелестело в трубке. — Вероятно, он очень устал. Он плохо выглядит. Леня хоть немного гуляет на свежем воздухе?
— Ну, вы легко это выясните, просто задав ему тот же вопрос, — не без удовольствия ответила Ира. Иногда ей хотелось, чтобы свекровь хоть на минуту перестала изображать из себя инопланетянку. — Вероника хочет поговорить с вами…