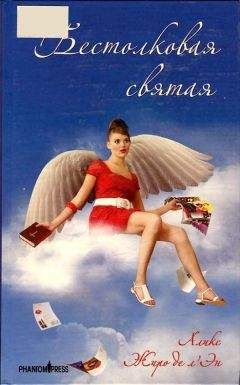– А человек сей…
– Да не все ли равно теперь? – быстро перебила Феодосью Матрена. – Было, да сплыло. Уплыли скоморошьи муде по вешней воде.
Мария вынула назад уже помещенный было в рот кусок пирога и уставилась на Матрену:
– Чьи муде?..
– Тебе больше всех знать надо, Мария! – отбоярилась от точного ответа повитуха. – Теперь об свадьбе думать надо.
Матрена повернулась к Василисе:
– Василисушка, ни об чем не переживай, баба Матрена все изладит. У бабы Матрены закон такой: уж хоть раком встать, а молока достать! Аз хоть и не сводница, а сама охотница, а сосватаю Феодосьюшку любо-дорого.
Словеса про охотницу были произнесены Матреной нарочито шутливым тоном, каковой окончательно разрядил обстановку.
– А коли Юда узнает, с каким приданым невесту берет?.. – тревожно вопросила Василиса.
– А чего Юда? Экой царь-государь! Иван Марье не указ: кому хочет, тому даст. Юду напоим допьяна, спать уложим, а наутро скажем, что запамятовал он, как жену молодую продырявил. Али калины у нас в запасе нет?
При сих словесах Матрена подмигнула Феодосье.
– Алое портище мы завсегда сыщем, – заверила повитуха присутствующих. – Феодосья у нас девка без изъяна, хоть и с дырой теперича. В колодце тоже дыра, а вода – свежа. Да за те варницы, что вы за Феодосьюшку даете, любой принц аглицкий ласточку нашу посягнет в брак, да еще кланяться с присядкой будет.
При сих словах Матрена не поленилась вскочить и изобразить поклоны гипотетического заморского жениха.
Василиса приободрилась и даже подбоченилась.
– И то верно, Матрена, – заносчиво сообщила она, – мы доченьку свою не с переметной сумой в мужнин дом отдаем. Одного скота туча тучная, не говоря о холопах! А уж жита, соли – сто кулей. А то иную девку выпихнут из семьи за ворота, а приданого – манда, да веник, да алтын денег.
Мария заводила глазами и запыхтела, приняв намек на свой счет.
– Целая-то манда дороже сундука денег, – пробормотала она. – Коли вы обо мне намекаете, так за мной хоть варниц и не давали, зато с Путилушкой аз девкой легла, и опосля венчания. Аз своего девства не растлила, чего и вам желаю!
– Будет тебе, Мария, – добродушно промолвила Матрена. – Никто об тебе не речет. Ты у нас жена добронравная. И приданое за тобой зело вещное дано. Тут спорить нечего. Давайте-ка лучше уговоримся, чтоб рот на заклепе держать, бо лишние разговоры никому не добавят добра. Слышишь, Мария?
– Когда аз лишнее болтала? – возмутилась Мария.
– Вот и добро. Василиса, аз тебе советую, как повитуха многоопытная, и Изваре Ивановичу ничего не сообщать. Зачем ему лишние заботы? Сегодня Феодосья очадела от скомо… от скорого греха али завтра, какая разница? На все воля Божья!
В миг Матрениной запинки Мария вздрогнула и искоса напряженно поглядела на Феодосью. Мысль, что сродственница могла каким-то неведомым образом сблудить с Истомой и следствие по этому вопросу неминуемо выведет на нее, Марию, обожгла. И Мария торопливо промолвила:
– Давайте побожимся и поклянемся самым страшным заклятием, что никому ничего не скажем про Феодосьин грех. Чтоб меня Бог громом поразил, чтоб меня волки разорвали, чтоб меня лешаки уволокли!
– Чтоб мне провалиться в преисподнюю, чтоб у меня руки отсохли, – перекрестилась Василиса.
– Чтоб мне язык вырвали, – заверила Матрена.
(Надобно сказать, что впоследствии никто из жен не нарушил клятву!)
На следующий же день повитуха, несмотря на поспешность действий ни на понюшку не оступившая от порядка сватовства, качественно изладила сговор между купцом Юдой Ларионовым и продавцами девичьего товару, то бишь Строгановыми. Юда Ларионов по явлении Матрены в его хоромах среди ночи, хоть и выглядел несколько ошалевшим, и на лицо даже Парашке показался схожим с редькой, кивком головы согласился обвенчаться и сыграть свадьбу в ближайшую же субботу, то бишь опосля завтра. Завершив к обеду следующего дня чин сватовства – в чем повитухе не было равных, вечером она с Марией и двоицей девиц-подружек повели Феодосью в баню.
– Некому калину заломати, некому кудряву заломати, – громко распевала Матрена на дворе по пути в баню, давая понять прохожим и проезжим тотьмичам, ежели таковые случились бы за частоколом Строгановских хоромов, что невеста ожидает свадьбы в непорушенном виде: с девством, целехонькая. – Ох, просватали девку-у! Ох, уезжать теперь ласточке нашей в злыдний мужнин посад!..
Василиса, стоявшая на высоком, как боярская шапка, резном крыльце, перекрестилась вослед: «Господи, хоть бы забрал Юда из нашего дому это лихо…» Но тут хозяйский взгляд Василисы привлекли две холопки, с болтовней тащившие кули с мукой, и она охватилась заботами об предстоящих всенощных хлопотах: готовить угощенье к свадебному пиру!
– Куда куль-то прете?! – завопила она с крыльца. – Али на дворе дежу ставить будем?!
Всю ночь и утро субботы Строгановские хоромы были озарены кострами. Зажаривали на вертелах барашков и поросят. В необъятном, как Матренина утроба, котле на тагане варили говядину. В огороде жгли огромные костры, дабы согреть на небесах от лютого мороза почивших сродственников, ибо известно, что явление упокойников на свадьбе совершенно ни к чему. В кухонной хоромине пекли свадебный каравай размером с тележное колесо, изукрашенный тестяными узорами, цветами и зайцами, солнцем и рыбами. От пирогов, прикрытых холстинами, дух шел не только по двору, но и по всей улице, проникая в церковные стены. Так что на заутрене отец Логгин, сглатывая слюну, прочитал облизывающейся пастве зело обличающее наставление о чревоугодии. Две дежи затворили не для пирогов и хлебов, а для молодых: Феодосье и Юде предстояло сидеть на них, укрытых шубами, ради плодовитости. С утра не обошлось без битья поганых холопов: Парашка рассыпала солоницу соли, а Тишка, паразит, запряг в свадебные сани двух кобыл! Хорошо, вездесущая Матрена вовремя заметила отсутствие в упряжи коня, а то рожать бы молодой одних девок! Собрав в себе остатки сил, Матрена самолично двинула кулаком в Тишкин загривок. Наконец, одна кобыла была заменена на резвого коня, а за воротами приготовлены кучи соломы, дабы молодые проехали через огонь, и поставлен наизготовку холоп с кремнем. Матрена кинулась в дом – наряжать невесту.
– Уморилась! – помахав себе в лицо дланями, сообщила Матрена и, оттерев Марию, взялась за дело: обряжать Феодосьюшку. Уж она вздевала на нея шерстяные юбки, уж напяливала красно-золотые душегреи, уж взбивала рукава – чтоб казалась невеста дородной, здоровой, а не тощей неплодью. Лицо Феодосьи Матрена вдохновенно набелила мукой, нарумянила клюквой, брови навела углем. Феодосья равнодушно сносила сие действо, не взглянула в поднесенное Матреной серебряное зеркало, а стояла недвижно посередь горницы, как соломенное чучело, каковое обряжают к масленице. Наконец, облачив поверх крытую расшитой тканью шубу, Матрена гордо представила невесту на суд зрителей, каковые в изобилии толпились в сенях, на дворе и за воротами. Возле свадебных саней уж в нетерпении дожидался Юда. Завидев Феодосью, он оторопел – то ли от красоты ея, то ли от толщины, то ли от алых щек, брусневших сквозь свадебное покрывало.