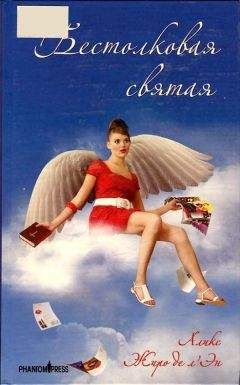Вселукавый Агапка почесал в главизне, потер пястью носопырку и уже пожалел о промолвленном. Но язык у него был, что уд срамной – зело нетерпелив.
– Вот благодарствуйте! Это – чего? – указала Феодосья на огромную железную сковороду, укрепленную над невероятных размеров костром.
– А это мы у чертей позаимствовали. Они на сей сковороде грешников жарили, – раздался из дыма голос неунывающего Агапки.
– Погодите, хозяйка дорогая, – рекши розмысля и тяжело шагнул в клубы пара.
Послышались звуки чинимой короткой расправы и упоминания «манды болтливой», которую Агапке сей же миг заткнут «осиновой елдой».
Феодосья засмеялась. Не над Агапкиным битьем, нет! Распотешил ея вдруг Агапкин веселый нрав, так напоминающий Истомин. Феодосья усмеялась впервые с того дня, как был казнен Истома. И потому тут же осеклась.
Через мгновение розмысля вынырнул наружу и, тряхнув с удовлетворением головой, приветливо доложился:
– Кается! Прощения просит. Ну да чего с него взять? Мужик сиволапый. Теперича можно производить осмотр варничного хозяйства. Чего бишь вы вопросили, Феодосья Изваровна?
Провожатый упорно величал семейство хозяев по отчеству, невзирая на опасность быть подвергнутым правежу за неподобающие положению титулы: не Извара Иванов, а Извара Иванович, не Юда Ларионов, а Юда Ларионович, уважительно рекши розмысля.
– Ой, да не величайте вы меня, как княгиню! – отмахнулась Феодосья. – Аз вопросивши: сие чего такое?
– Сия сковорода, хоть и похожа на адскую, но не она.
– Не црен ли? – наконец призналась в некотором владении вопросом Феодосья.
– Ей! Црен. Да вы уж знаете в солеварении?
– На словесах только. Юда Ларионов мне книжку дали: «Роспись, как зачать делать новыя трубы на новом месте». Так я маленько почитала, чего смогла. Про црен вот запомнила.
– Книжки, значит, читаете? – удивленно промолвил розмысля.
– По складам, – заскромничала Федосья. – Аз-буки-веди.
– Живете-он-покой-аз, – прибавил промелькнувший в дыму Агапка. Он был мастер составлять глумы и срамы, перечисляя названия букв. Вот и сейчас, не удержавшись, составил из буквиц потешину.
– Я тебе дам жопу, дай только добраться! – крикнул в клуб пара розмысля. – Ах, пес! Не слушайте, Феодосья Изваровна. Аз с ним потом разберусь по-дружески. Во что свинья ни оденется, а все хвост к гузну завернет, прости Господи!
– Да оставьте его. Весельчак, что тут возьмешь? – махнула рукой Феодосья. – Книжки читать аз от скуки взялась. Целый день одна в дому. Словом перемолвиться не с кем. Юда Ларионов впотьмах уезжает, впотьмах приезжает, круглый день на варнице, просолился уж весь до костей…
Феодосья тихо вещала, вышагивая рядом со своим провожатым.
И то правда, с тех пор как после свадьбы переехала она в мужнин посад возле Соли Тотемской, жизнь ея стала зело одинокой. А оттого не было препону черным и страшным, как шкура медвежья, мыслям об Истоме. И если что и давало силы перенесть мучительную кончину единственно любимого ею человека, то мысли об чадушке, Истомином продолжении на этой земле.
Феодосья вспомнила, пригорюнившись, как покинула отчий дом в слободе, родной с детства, как глядела, сидя в санях, недвижным взглядом вдоль дороги. Будь она не в горькой сухоте, непременно наполнилась бы ея душа от зрения Тотьмы благостью и лепотой. Ведь позрить было на что! Зело величава и одновременно живчива была Тотьма. Дивный город! Могучая деревянная крепость, возвышавшаяся на крутом насыпном холме над Сухоной, ея многочисленные башни – Воротная, Тайнишная, Троицкая, Рождественская – вырастали перед глазами путников, прибывших летом кораблями, а зимой – обозами, как сказочный град небесного царства. Небось глянь кто на Тотьму с Месяца, так увидал бы на возвышении еще горячий, с парком, духмяный высокий курник – и с яичной начинкой, и с курой, и с говядиной, и с кашей, и с рыбой. Обильная чудными церквами и соборами, богатая колоколами, что творили потрясающие звоны и благовесты, и диво дивное – железные часы с боем, – все сие приятно поражало многочисленных гостей и путников. Английские торговые гости, что открыли в Тотьме множество контор и дворов, только «Оу!» и покрякивали, замерив украдом на глаз ширину рукотворного рва, окружавшего крепость. И выходило у энтих козлобородых гостей в потешных гологузых портках, что ров-то поширше ихнего лондонского будет! И чуяли опасливо гости иноземные, что во рву скроется ихняя кирха вместе с колокольней! Велико лепны были палаты на подворьях Спасо-Прилуцкого, Николо-Угрешского, Спасо-Суморина – всех и не перечесть! – монастырей. Держали сии монастыри в Тотьме осадные дворы, дабы осуществлять соляной и иные промыслы. А дабы барыши монастырские не прошли случаем мимо казны царской, тут и земская изба угнездилась: всяк, вываривший из глубоких соляных ключей да вывезший соль земли в чужие края, платил здесь налоги да пошлины. И выходило по писцовым книгам, что в лето в Тотьме промыслялось никак не меньше 130 тысяч пудов соли. А коли взять во внимание, что в деле податей тотьмичи государя норовили наеть да объегорить, то соляного товару было, пожалуй, и поболее. Чудным украшением всех построек были железные изделия: витиеватые решетки на окошках, стрельчатые дверные навесы и петли, такие возжелал бы и Господь в свои палаты! Даже гвоздь каждый украшен был по головке тотемским кузнецом то бутоном, то шишечкой. Сие железное рукоделие тотемским железоделям было в баловство: как на один-то црен выкуешь до шести тысяч заклепочных гвоздей, так опосля для хором фигурные гвоздочки смастерить – одно удовольствие. С гвоздями-то такая история бысть! Кузнец Пронька-блудодей ради веселых глумов возьми да и выкуй для соляного монастырского амбара гвозди с мудями на шляпке. Меленькие эдакие муде, с пчелку размером, однако ж рассмотреть можно. А се… Братия пришла гвозди забирать, да брат Филлоний изделие к зенкам поднес и обомлел: истинная елда железная с муде!
– Это чего же такое? – вопросил брат Филлоний – Али срам?!
– Ох-ти мне! – глумится Пронька. – Ошибочка вышла! Сии гвоздики не для вашего монастыря, отец Филлоний, а для палат матушки Фавиады, оне просили гвоздочки особые, чтоб играючи всаживались.
Монахи частью заржали, частью закрестились, а отец Филлоний возьми да и дай глумам ход: доложил об Пронькиной выделке куда следует. Сперва проорал приказной дьяк тотьмичам, что приколочен будет мерзавец Пронька сиими гвоздями за уши. Бабы посадские в рев. Да на счастье Пронькино полюбовница воеводина упрекнула тотемскую администрацию в жестокосердии и ночью вымолила послабление. Так что Пронька и не пострадал вовсе: уши без него приколотили на сосновое древко посередь торжища. Он теперь без ушесов ходит, но все одно довольный: сперва-то было мнение воеводы, что гвоздями Проньку надобно примолотить за муде. С тех пор Пронька на шляпках выковывает одне лишь яблочки да землянички. Но это, конечно, когда сработаны црены. А на одну такую сковороду шли до четырех сотен кованых листов железа, как их называли тотемские солевары, трениц. Потому-то кузнечному посаду, мимо которого ехала Феодосьюшка в мужнины хоромы, и конца не было. Стоял над ним звон и пыхтение, шел из ворот дым, сияли внутрях огненные зарницы и шипели аспиды. Жар шел от посада, как от бабы, что ворочается в томлении в пологу. Черти-железодели беспрерывно ковали крепежные скобы, крюки, колуны. Бо колунов на тотьмичей не напасешься, едят оне их, что ли?! Правду сказать, для одних только костров под солевыпарочные сковороды рубили мужики до десяти тысяч сажен дров! А еще были посады древодельные, где промысляли мастера лодки, баркасы, сани и подводы – возить соль до Сухоны, грузить на корабли али везти обозами в Москву. По пяти сотен кораблей проходили по Сухоне за лето! До тысячи саней и телег собирались в обоз соляной либо рыбный! Казалось, вся Тотьма приведена в перемещенье. И это невероятное движенье более всего поразило Феодосью. Но не тот его смысл, к которому привыкла она уж давно, – вереницы холопов и работников, несущих и везущих к берегу Сухоны кули с солью, рожью, шкурами. А сам факт безостановочного живота. Феодосья страдальчески озирала усердное копошенье тотьмичей, и странные мысли овладевали ею. «Истомы не стало, а живот продолжается, как ничего и не случилось. Вон бабы посадские навели брови сажей и идут до колодца, хохочут. Портомойницы тащат портища на речку полоскать, перемигиваются с мастеровыми, алкая блуда. Все живет в веселии. Словно и не отлетела душа Истомушкина. Стало быть, одного человека убыль – не значит ничего? А – двоицы? Тоже – пустое? А троица коли упокоится? Сотня? Тысяча? А ведь любая смерть – Божьим промыслом. Значит, и вся Тотьма, Его волей будучи умертвленная, не есть горе? А всей земли население? Что как всех Господь смертью накажет? Неужели и тогда Сухона течь будет, а соляные ключи – бить? Пренебрежет ли Господь гибелью всего сущего али не пренебрежет? С какого же числа человек ценен становится? И почто тогда создавал он человека, коли, как куклу соломенную, в костер смерти бросает?» Ох, как же вредны были привычки Феодосьи все обмысливать! Все горе ея, вся юдоль земная от розмыслей проистекали. Не думать бы ей, али хотя бы не эдак настойчиво, как хорошо бы всем было! Но что верно было в Феодосьиных размышлениях, так мысль, что не присматривает Господь толком за тотьмичами, али присматривает спустя рукава. А они, на Бога надеясь и свято блюдя Его законы, меж тем не плошали. Уж сколько народу Божьим промыслом забирал Государь из Тотьмы! Баба Матрена вспоминала, несколько сот семей и непорочных девиц (на девство, правда, их никто не проверял, но тотьмичам нравилось вспоминать, что девки все были муженеискусными) силой переселяли в Мангазею да на Енисей. Ох, рев стоял! Девки непорочные должны были стать женами переселившихся в Сибирь казаков да всякого беглого сброда – воров и разбойников, и рыдали оне, расставаясь с тотемскими своими женихами. В голод и мор становились деревни и посады пустошами. Но вновь населялись неунывающими тотьмичами! Потому что бысть обитатели берегов Сухоны крепки духом и обильны на любовные услады. Бабы тотемские бысть плодовиты и веселы до мужиков, ханжеством не страдали, плясок в коленца не чуждались, в самую горечь находили радость в жизни, наполнены были природной страстью, и потому нарождались маленькие тотьмичата, как грибы после дождя. И быстро наполнялись посады людьми, обселялись вновь пустоши. И если по правде, а не по фарисейской напускной кривде, то гербом Тотьмы должен бы быть не черный соболь на золотом полотнище, а золотая елда возле черного соболиного подчеревка.