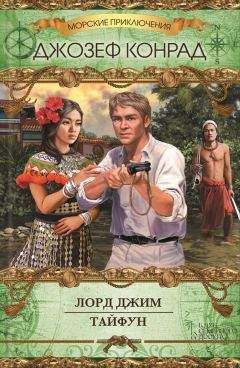Слова песни падают на душу, как оранжевые уголья на незащищенную ладонь:
Я потеряла сына дважды. Дважды!
Сначала он ушел к лихой девчонке,
Которую назвал своей женою…
Потом он на войну уплыл — за море.
Его старуха смерть штыком сразила,
Печальней нету материнской доли —
Иль женщина, иль смерть сынов воруют.
Пусть лучше б сыновья о нас страдали,
Но сами оставались бы в живых…
Сколько времени прошло? Я попытался поднять руку, чтобы посмотреть на часы. И не смог. Я чувствовал себя уютно, тепло, легко. Где-то далеко за горами проступила светло-бирюзовая полоска. Она стала постепенно шириться, алеть. Я лежал на краю рисового поля, в жидкой грязи — беспомощный, раненный, видимо, тяжело. Я даже не знал, насколько тяжело. Я не хотел знать.
Впервые в жизни я имел возможность рассматривать себя вот так — со стороны. Мне было хорошо, ничего не хотелось — ни спать, ни есть, ни пить. Ничего. И никого. Я не помнил, кто я, откуда, как очутился в том месте и зачем. Я понимал, что скоро стану частицей этого поля, этой грязью и этой водой. И я хотел, я жаждал, чтобы это превращение произошло быстрее и чтобы я перестал наконец ощущать радость и боль. И чтобы не было этих бесконечных и мучительных «почему?» и «зачем?». Чтобы было лишь одно — полное слияние, растворение, единение с тем вечным, из чего появляется, делается, строится все частное, временное, преходящее.
Я открыл глаза от нестерпимой боли; солнце низвергало потоки огненной лавы прямо на сердце. Вновь я увидел себя со стороны. Напялив на мое лицо маску, двое вливали мне в рот раскаленный свинец. Обугленная земля дымилась. Вдруг все ощущения боли отключились. Двое оказались крестьянами. Один из них расправил мокрую тряпку на моем лице, медленно отер с него пот. Второй поднес к губам горлышко фляги. Вода была теплая, невкусная, густая, как касторовое масло. Крестьяне о чем-то спорили. Их оглушительно-громкие голоса гремели, как орудийные залпы.
Ну зачем, зачем они так орут? И о чем? Ведь все равно ни слова не разобрать, все сливается в угнетающий разум гул.
На краю поля остановился «джип». Каким маленьким кажется он отсюда — игрушечный автомобильчик из детского набора. Из «джипа» выскочили крошечные солдатики. Неуклюже взмахивая руками, двинулись через поле. Коммандос. Впереди — сержант из второй роты. Подбежал ко мне, весь в грязи, ворот распахнут, рукава закатаны выше локтей. Теперь крики тише, слова понятны. Сержант машет мне рукой. Странно сузив глаза, разглядывает меня в упор. Молчит, отвернувшись. И вежливо, учтиво даже — командос так обычно не разговаривают и с начальством, — спрашивает:
— Почему не доложили о раненом в отряд? Или властям?
Крестьяне молчат, уставясь в землю.
— Играть в молчанку будете на том свете, — ласково говорит сержант и передергивает затвор автомата. — У меня же для вас всего одна минута. Отвечайте.
— Мы только что его нашли, — волнуясь, отвечает на невообразимо ломаном английском один из крестьян.
— Поле твое?
— Мое поле, — соглашается крестьянин.
— И ты начинаешь работать в десять? Ты не фермер, а бездельник, — сержант дружески улыбается.
— Бой был, — возражает крестьянин. — Мы боялись… Партизаны мин насовали… Он, видно, на одну и напоролся…
Издалека доносится крик. Сержант хмуро молчит, ждет.
Подходит солдат, сообщает:
— Еще один наш! — Он показывает рукой в сторону. — Мертвый. Вздулся уже.
— У вас под носом партизаны ставят мины, — сержант улыбается. — Наших людей убивают на вашем поле. А вы спите?! Ну что ж, теперь будете вечно спать!
И он скашивает крестьян из автомата. И смеется! Или я схожу, уже сошел с ума? Он подходит ко мне и, все так же улыбаясь, цедит:
— Этот вроде тоже готов?
— Дышит, — отвечает ему кто-то.
— Тащите к машине, — приказывает сержант.
— Тоже занятие — с падалью возиться, — недовольно ворчит кто-то. — Пулю в лоб — и баста.
Господи, вразуми: за что он прикончил этих двоих? За что? Уж лучше бы меня, лучше меня! Опять… свинец в рот льют…
…Мервин проснулся, вздрогнул. Первое ощущение — будто самолет падает. Его стало тошнить. Что это с ним? Неужели испугался за свою жизнь? Мысль эта, вполне естественная, показалась Мервину смехотворной. Он — и страх за жизнь?! За свою, за чью-то…
Появилась сестра милосердия, монашенка. Мягко приподняла голову Мервина, влила ему в рот какое-то лекарство.
— Вот так, сейчас все пройдет!
Она обвела быстрым взглядом отсек, чуть заметно нахмурилась.
— Общество почтенное, но крайне молчаливое, — проговорила она извиняющимся тоном. — К сожалению, госпиталь сейчас переполнен. Я бы с радостью перевела вас в другое место. Но все забито ранеными. Даже операционная — вы сами видите…
Да, Мервин видел: красная лампочка, означающая «Внимание, идет операция!», горела непрерывно.
— Я к такому обществу привык на земле, — спокойно сказал он. — Похоже, снижаемся?
— Да, садимся — Бангкок. Здесь возьмем еще несколько пассажиров. Они только вчера прибыли сюда на отдых. И вот… — Монашенка снова посмотрела на гробы. — С земли сообщили, что все они были молодые… Им бы жить и жить…
Мервин промолчал. Он отчетливо увидел картину из недавнего прошлого — морская пехота брала штурмом бангкокский «рай». Да, штурмы без жертв не бывают…
Потом предстояла остановка в Гонконге. Там Мервин пересядет на транспортный самолет королевских ВС, который летит в Окланд. В отсек заглянула монашенка: «Все ли в порядке?» Мервин благодарно улыбнулся. Монашенка постояла с минуту и вышла, подумав, что этот красивый безногий юноша слишком уж молчалив и мрачен. Впрочем, для веселья у него не так много поводов. Кажется, он опять дремлет…
«Что могло заставить ее пойти в монастырь? — думал Мервин, закрыв глаза. — Миленькая, совсем неглупая, спортивно сложена… Трагическая любовь? Но сейчас мало найдется девушек, которые по столь суетной причине отважатся на такой решительный шаг. Религиозные устои семьи? Но таких семей становится с каждым годом меньше и меньше… А может, она решила замолить грехи чрезмерно бурной молодости? В таком случае святости ей хватит ненадолго, совсем ненадолго… Я твердо знаю одно — прочна вера, обретенная под пулями, в смертном хаосе боя, когда кругом гибнут люди, а тебя не берет ни огонь, ни металл — ничто! Про тебя говорят: «Счастливчик! Заколдован он, что ли?» А ты твердишь одну молитву: «Господи, жить! Жить, господи!» И в ней, единственно в ней — твое спасение… Без этой веры на войне человек гибнет, как мышь в ведре с водой… А для такой девицы, как эта, вера или блажь, или привычка. И то и другое фальшиво. Без потрясения души нет истинной веры…»