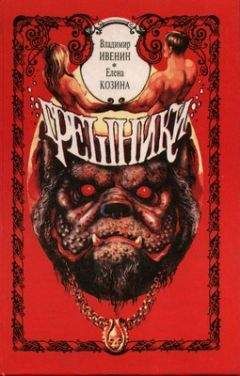Я улыбаюсь.
— Частично это было связано с уклонением от уплаты налогов, частично с шантажом.
— Что ты имеешь в виду?
Я оборачиваюсь и смотрю на нее. Она чертовски очаровательна, закутанная в одеяло, из которого видны только ее большие глаза и несколько прядей рыжих волос.
— Мой отец стал дьяконом, потому что римские католики ничего так не любят, как хорошую исповедь, — я перевожу взгляд на исповедальню в углу. — У него был компромат на очень многих людей.
Пенни проследила за моим взглядом и наклонила голову.
— На самом деле это довольно умно, — признает она.
Конечно, она бы так подумала, чертова маленькая мошенница.
— Пойдем, — я беру ее за руку и тяну к кабинке. Свет от моего телефона освещает узкий карниз за ней, заставляя паутину сверкать, как блестки. — Мы с братьями прятались здесь и слушали, как все местные жители исповедуются в своих грехах.
— А, так ты всегда был любопытным придурком, — огрызается она, выдергивая руку из моей. Позади нас дверь скрипит от ветра, и Пенни снова быстро прижимается ко мне.
— Мы не просто слушать, Куинни. Отец заставлял нас выбирать самые страшные грехи, о которых мы слышали за неделю, а потом... — я прикусываю внутреннюю сторону губы. Конечно, Пенни не святая, но я все равно ненавижу говорить с ней о таких отвратительных частях моей жизни. — Устранять их.
Ее глаза пронизывают сквозь тени.
— Что?
— Мы убили самых отъявленных грешников, — я пожимаю плечами, вспоминая приятные воспоминания моего детства. — Того, кто признавался в изнасиловании своих жен, когда возвращался домой слишком пьяным из бара. Того, кто сбил велосипедистов на дороге Мрачного Жнеца, возвращаясь домой после ночной смены, и оставил их умирать.
Пенни делает глубокий вдох, переваривая мои слова.
— Значит, вы были, по сути, мальчишками из церковного хора, которые играли в мстителей?
Я не могу удержаться от смеха.
— Скорее, Висконти в процессе обучения. Насилие — это образ жизни моей семьи, и я полагаю, мой отец хотел, чтобы мы начали как можно раньше.
— И тебе было это всё ненавистно?
Я бросаю на нее взгляд.
— Нет. По правде говоря, нам это нравилось — мне больше, чем моим братьям. Полагаю, с этого и началась моя любовь к играм.
Она плотнее закутывается в одеяло, впиваясь взглядом в исповедальню, словно та внезапно оживет и расскажет ей все секреты, сокрытые в ее дубовых стенах.
— Тебе это так понравилось, что ты открыл горячую линию.
— Да. После того, как умер наш отец, а мы с братьями разъехались по разным уголкам земли, я решил возобновить игру на более... профессиональном уровне. Это дало нам повод оставаться близкими. Теперь это нечто большее, чем просто игра в Яме, — я протягиваю руку и глажу ее по щеке костяшками пальцев. — Большее, чем ты можешь себе представить, Куинни.
Ее взгляд встречается с моим, в нем пляшет смятение.
— Ты выбираешь самые худшие признания с горячей линии, выслеживаешь и убиваешь их?
— Угу. Раз в месяц.
— Господи...
— Шшш, он тебя услышит.
Она не смеется над моей шуткой. Вместо этого изучает меня так, словно видит впервые.
— Зачем ты мне это рассказываешь?
Слова Анджело отдаются у меня в ушах. Докажи ей, что ты не такой отъявленный мудак, каким себя изображаешь.
— Потому что мне нужно, чтобы ты знала, что я открыл горячую линию не потому, что я какой-то чудак, которому нравится слушать, как люди исповедуются в своих грехах, — затем делаю паузу. — Конечно, некоторые из них пикантные, но быть любопытным никогда не было моей конечной целью. Мы выбираем отбросов общества и убиваем их. Конечно, я не какой-то там спаситель, и да, это иронично, потому что их убийство также делает меня плохим человеком, но нельзя отрицать, что мир стал лучше без них, — я делаю глубокий вдох. — Ты использовала горячую линию не по назначению. И, конечно, когда я впервые услышал твой звонок, то думал обо всех мелких способах, которыми я мог бы поиздеваться над тобой...
— Бутерброд с тунцом, — сухо говорит она. — Вырывание страниц из моих книг Для чайников.
Я одариваю ее застенчивой улыбкой.
— Хочешь сказать, что не поступила бы так же, если бы все было наоборот? — проходит всего мгновение, но этого достаточно, чтобы понять, что оцинкованная стена вокруг ее сердца дала трещину. Я придвигаюсь к ней поближе, используя этот прогресс. — У меня никогда не было злого умысла. Новизна секса с тобой очень быстро прошла, детка. Вскоре я просто помешался на том, чтобы слушать, как ты говоришь. Обо всем и ни о чем — мне было все равно. Пока твой голос звучал у меня в ушах, я был счастлив.
Между нами повисает гробовая тишина на фоне ветра, дребезжащего в заколоченных окнах. Когда она наконец заговаривает, это крошечный, односложный вопрос. Шепот в наполненном пылью воздухе.
— Почему?
Я провожу большим пальцем по ее пухлой губе. Правда соскальзывает с моих губ, как подогретое масло.
— Потому что я люблю тебя.
Она смотрит на меня еще несколько мгновений, выражение ее лица жесткое и нечитаемое. Мое сердце замирает, когда она внезапно отстраняется и обходит исповедальню, проводя пальцем по замысловатой деревянной отделке и решетчатым дверям.
Бросив на меня быстрый взгляд, она заходит в кабинку для кающихся и закрывает за собой дверь. Не задавая вопросов, я проскальзываю в другую кабинку и закрываю дверь, погружая нас в темноту.
Медленное, тяжелое дыхание Пенни доносится сквозь решетчатый проем, разделяющий нас.
— Ты действительно любишь меня? — шепчет она.
Я прижимаюсь виском к железной решетке.
— Да.
Повисает пауза.
— Той ночью в телефонной будке ты сказал мне, что никогда не был влюблен. Если ты никогда этого не чувствовал, откуда знаешь?
Я закрываю глаза. У меня слишком много слов и недостаточно способов их упорядочить. Откуда я знаю? Потому что произносить это вслух так же легко, как дышать. Потому что только упоминание ее имени воспламеняет мою кожу. Потому что она — моя первая мысль утром и последняя ночью.
Потому что я просто, черт возьми, знаю.
Я сглатываю.
— Потому что, хотя мне не везет с тобой, без тебя я чувствую себя еще более неудачливым.
Ее дыхание становится более быстрым, заполняя пустоту в моей груди. Я вдруг вспоминаю, зачем привел ее сюда: Мне нужно знать, что ты не такой, как другие.
Когда ее тело задрожало рядом с моим на мысе, я понял, что все деньги, подарки и изысканные блюда никогда не принесут ей успокоения. Только мои поступки и слова. Она травмирована морально. Сломана мужчинами из нашего мира, и моя обязанность — починить ее и убедиться, что она никогда больше не разобьется.
Когда я цепляюсь пальцами за решетку, кончики пальцев касаются ее с другой стороны.
— Я никуда не уйду, Куинни. Никогда.
— Даже если тебя снова чуть не убьют?
Мой смех просачивается сквозь решетку.
— Я уже смирился с тем, что опыт близкой смерти — это риск, связанный с тем, что быть с тобой.
Решетка тихо дребезжит. Должно быть, она тоже прижалась к ней головой, потому что я чувствую ее тепло и запах духов. Зажмурив глаза, я борюсь с желанием пробить эту стену и схватить ее. Вместо этого собираю всю свою выдержку, на какую только способен, и достаю из кармана стодолларовую купюру, затем просовываю ее в решетку.
— Поцелуй меня.
Через несколько секунд она скользит в обратном направлении и падает мне на колени. Затем раздается шарканье, скрип петель, и мягкий свет свечей наполняет мою кабинку. Мой взгляд скользит к Пенни, темнеющей в дверном проеме. Она наклоняется, забирается внутрь и садится мне на колени.
Ее щеки влажные и теплые, прижатые к моим. Она проводит губами по моей челюсти, по моему рту и шепчет.
— Этот бесплатный.
Глава двадцать восьмая