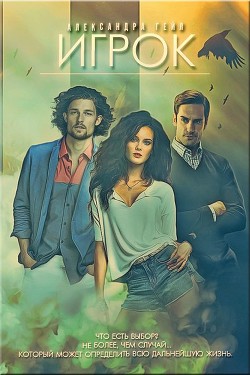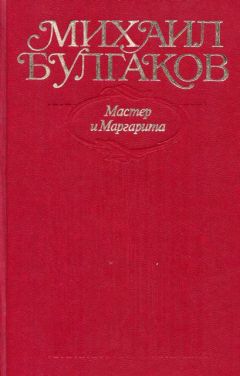Услышанное не укладывается у меня в голове. Я никогда не думал о ситуации именно в таком ключе, но Жен права: то, что для меня является игрушками, для нее — вся жизнь. Не поэтому ли она всегда держалась вдали от прессы? И впрямь, может ли человек с настоящими, не надуманными проблемами хотеть, чтобы о них узнал весь свет?
Чуть ли не с первого дня я видел ее эдакой забавной малышкой, а теперь чувствую себя снова вихрастым пацаненком с выбитым зубом, который попытался обмануть маму. Наверное, у нее очень старые глаза. Старые и усталые. Я видел такие на лицах безнадежно больных малышей и всегда отворачивался. С чего взял, что она не такая? Боже, сколько бы я отдал за то, чтобы увидеть сейчас ее лицо.
— Постойте… — говорю, когда она встает. Я еще не ответил, ничего ей не сказал, а теперь даже не знаю, где она стоит. Здесь ли? В этой ли вообще реальности?
— Нужно торопиться. У вас сегодня операция, — произносит сухо и берется за ручки моего кресла. Внезапно я вдруг начинаю на нее злиться, особенно за то, что вынужден терпеть ее в качестве собственной сиделки. Скорее бы все это закончилось. Сегодня, умоляю, пусть операция будет сегодня!
Жен
Капранов изучил каждый снимок, каждый анализ. Перестраховывается. Прошлая ошибка обошлась дороговато, и мандраж неизбежен, но это его дело, а почему-то коленки дрожат у меня. Голова живет отдельно от тела; она утверждает, что Кирилл — тот еще мерзавец, и наговорила сегодня много лишнего, а вот сердце обливается кровью, окончательно сдавшись на милость неизменному обаянию и цветистым фразам.
— Заказывай операционную, — говорит наконец Андрей Николаевич, вышибая из моих легких весь воздух.
Хирургов, равных Капранову по мастерству, в Питере всего двое, и оба они работают в частных клиниках, куда наставника никогда не возьмут из-за недостатка лояльности к любому руководству. Анархист, сказал Харитонов, и он совершенно прав, но в операционной Андрей Николаич почти никогда не ошибается. Если кому и стоит доверять, то именно ему. Я все это знаю, но все равно вхожу в палату Кирилла на ватных ногах и настолько сбитой с толку, что почти позабыла о конфликте. По крайней мере, устраивать темную и дальше совсем не тянет.
— Мои поздравления, операция пройдет сегодня, — сообщаю Харитоновым, которые уже ждут вердикта всей семьей… поправка, всей семьей, кроме Веры Рихтер. — Ну, я надеюсь, вы готовы.
Валерий Станиславович — этот непрошибаемый человек — просто кивает, а Галина Сергеевна бросается целовать сына. Я отчетливо помню ощущение маминых слез на лице, когда она напоследок, перед тем, как увозят каталку, касается щеки мокрыми губами.
— Да, мы готовы, — говорит Кирилл поворачиваясь ко мне и наугад попадая взглядом точно в мое лицо. Даже хочется помахать рукой и проверить, не прозрел ли. По пальцам могу пересчитать случаи, когда мне казалось, будто он смотрит именно на меня. Это словно напоминание, что скоро так и будет.
— Увозите скорее, а то вечность прощаться будем, — добавляет.
Но настрой Кирилла меняется, когда мы оказываемся в лифте. Он становится все более молчаливым и взволнованным, и я начинаю опасаться, что пожалела успокоительных, в конце концов, он будет в сознании.
— Скажите, что все будет хорошо. Это меня успокоит, — просит пациент.
— Я не могу дать вам гарантий, Кирилл. Есть ничтожные пять процентов, из-за которых все может пойти не так.
— Боже мой, это просто немыслимо! Какие гарантии, Жен? Я не как врача вас прошу!
— А как кого же?
— Как человека, который вытащил меня из обломков и провел через самое сложное время, не отпустив ни на мгновение. Неужели даже сейчас, в такой день, не можете чуточку отступить от рамок? Если вас это успокоит, я прекрасно осведомлен о том, что у вас с субординацией никаких проблем!
— Я…
— Сделайте все возможное, Жен Санна, успокойте пациента. Прошу.
Нажимаю на кнопку остановки лифта, а затем впиваюсь пальцами в расположенный за спиной поручень, и тихо начинаю делать то, о чем он просит, говорить то, что не должна:
— Тебе не о чем переживать. Не могу дать гарантий, но все, что мы могли сделать, сделали и продолжим. Это нам стоит бояться: мне, Капранову, Павле, — потому что мы за штурвалом самолета, от нас зависит, не упадет ли он. Ты пристегнул ремень безопасности, выключил мобильный, поднял спинку кресла, сложил столик и открыл шторку. Остальное — не твоя забота. Когда меня оперируют, что-то не так идет всегда, но я закрываю глаза, а потом открываю и слушаю страшные слова. Кошмар, но мысль о том, что мне не пришлось в этом участвовать, утешает. И, если что-то пойдет не так, — тебе просто сделают укол снотворного. Останется проснуться. Мы со статистикой считаем, что ничего с тобой не случится. В операционной уже собрана наилучшая бригада во всей больнице. Если кто и может обеспечить тебе мягкую посадку, то именно они. От тебя эти люди ждут только двух вещей: чтобы ты в правильный момент заснул, и в не менее подходящий проснулся.
— Спасибо, — медленно выговаривает он.
Позволяю лифту продолжить свой путь, а сама нервно поправляю шапочку. Волнение никак не оставит меня в покое. Глумясь, оно сжимается в комок и ударяет в живот, заставляя внутренности завязываться узлом. В голове бьются друг о друга мысли, резонируя, пробивая дыру в стене здравого смысла, обнаруживая за ней лишь несусветную глупость, подобно ядовитому газу устремляющуюся в образовавшуюся щель, отравляющую и застилающую все вокруг. Иначе я никак не могу объяснить то, что под влиянием эмоций прижимаюсь к губам Харитонова своими. Поцелуй «на удачу», говорю. Если бы. Этот жест не менее смертелен, чем укус кобры. И я его забыть не в состоянии.
Пока Капранов моет руки, а анестезиолог дает Кириллу краткие рекомендации, я пытаюсь прийти в себя, унять бьющееся сердце, не свернуться калачиком, схватившись за голову и вопрошая: «что я наделала». Кожа под маской горит и пылает, а глаза не знают, за что зацепиться. Разве что… поднос с инструментами. Их много, можно долго перечислять. Скальпель на десять, на одиннадцать, ретрактор, зонд, пинцет… Еще раз оглядываюсь. Кажется, я вечность не была в операционной. Прикрываю глаза в попытке проникнуться ее атмосферой. Спокойствие, собственность, власть… Но открывается дверь, входит Павла, вытирает мокрые руки стерильным полотенцем, и медитация к дьяволу.
— Родители пациента попросили меня поприсутствовать на операции и убедиться, что ты не прикоснешься к инструментам. Учитывая ситуацию, я была вынуждена согласиться.
Вынуждена. Как же. Теперь я краснею от злости, а не смущения. Будто Мельцаевой не доставляет удовольствие надо мной измываться! Будто она пришла не для того, чтобы устроить нам с Капрановым новый круг ада. Но мы еще посмотрим, кто кого. В смысле, я посмотрю, заедая попкорном, а на арену — наставника, пожалуйста. Кстати, вот и он.
— Ну? — спрашивает Капранов, появляясь следом за Павлой, а я злобно отмечаю, что он мыл руки дольше, чем эта мегера. — Где наш великомученик недоделанный? Самое время доделать!