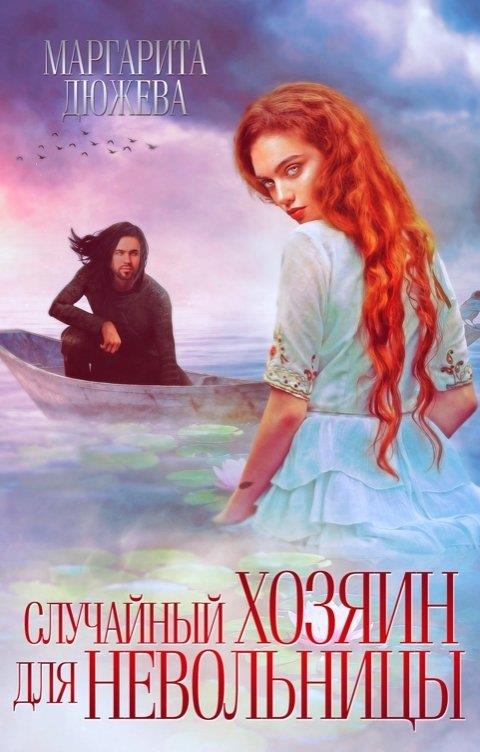своему усмотрению сделай, как тебе удобно. Сильно не заморачивайся, мы не привередливые. Если вдруг, когда-нибудь приедем, то главное, чтобы кровать была, где его поспать уложить.
Если вдруг…когда-нибудь… Она не видит меня рядом с ними.
Надо что-то сказать. Срочно выбить ее из этого состояния, а я не могу. Меня никогда в жизни не бросали. Да, расставался с барышнями, иногда достойно, иногда некрасиво. Некоторые орали, рыдали и проклинали меня, громко хлопая дверями. Но мне пофигу было. Отворачивался и тут же вычеркивал из своей памяти любые воспоминания о них. Но к тому, что однажды будут пытаться вычеркнуть меня самого, я оказался не готов.
— Лер, не говори глупостей.
По ее кривой усмешке, понимаю, что опять не то. Я не умею разговаривать по-человечески, не обесценивая чужие слова и порывы, не выставляя свою позицию, как единственно правильную.
Решимости во взгляде Вознесенской становится еще больше.
— Я была готова бороться за тебя тогда. Три года назад. Мне даже казалось, что тебе это нужно. А сейчас понимаю, насколько большой дурой была. Вы как акулы в огромном бассейне, грызете друг друга, рвете на куски. Это твой мир, ты знаешь его правила, и чувствуешь себя в нем прекрасно. Здесь твое место. Среди вот этого всего, — делает широкий жест руками, — Ты тут как король. Самая большая акула.
Последнее предложение получается даже с долей восхищения. Только оно не светлое и не радостное, а наоборот. Так восхищаются необходимым злом. Хищником. На которого смотрят издалека, а еще лучше по телевизору, но не хотят видеть близко рядом с собой.
— Лер, ну какая акула. Я налажал по полной с Эльвирой.
— Что ж, — философски жмет плечами, — иногда женская хитрость оказывается эффективнее мужской силы. Смирись.
— Да не хочу я ни с чем мириться! Я хочу, чтобы ты рядом была…
Она игнорирует мой последний всплеск:
— Трясти грязным бельем на публику и кричать на всех углах о том, что у меня сын от Барханова тоже не стану. Алиментов мне не надо, но если надумаешь навещать, то прихватывай что-то из игрушек. Хотя бы мячик или плюшевого мишку. Так хотя бы начнет формироваться положительная связь между вами. Чтобы он знал, что ты есть и ждал…
Слушать размышления о каких-то связях, которые, по ее мнению, я иначе как своими бабками и сформировать не могу — тошно. Нет. Не так. Слышать это — больно. Этот чертов бесконечный день все-таки оказывается сильнее меня и пробивает в моей броне дыру размером с кулак.
Глава 23.3
— Я не хочу, чтобы ты уходила
— Это уже неважно, Барханов. Слышишь? Мне неважно, чего хочешь ты. Я о своем выживании думаю, и о том, чтобы обезопасить Максима.
— Ты думаешь, есть место более безопасное, чем рядом со мной?
— На другом конце света, — отвечает не задумываясь. И ей плевать на мои связи, возможности, деньги.
Мы подошли к той грани, когда я готов на что угодно, лишь бы удержать ее, а Лере этого не надо. Я чувствую, что мое присутствие ее тяготить. Она не смотрит на меня, старательно отводит взгляд, в котором плещется неприкрытая боль, упирается.
— Не получится порознь, ты же знаешь.
— Получится, Демид. Три года ты не вспоминал о моем существовании и прекрасно жил. И если бы Эльвира по несчастливой случайности не выбрала тогда именно наше агентство, ты бы так и шел бы дальше.
— Я помнил тебя всегда.
В этой фразе нет ни капли лжи. Все три года она прочно сидела на подкорке, прорываясь то в ночных кошмарах, то в случайных флешбеках, когда слышал чей-то громкий смех или знакомый запах духов. Иногда я видел ее в лицах, проходящих мимо людей, иногда гипнотизировал взглядом ее номер, так ни разу и не набрав его.
— Почему тогда ни разу не позвонил, — Вознесенская будто читает мои мысли, — Не пришел? Просто спросил бы как мои дела.
— Потому что…— горло перехватывает, — потому что я запретил себе это делать. Просто запретил и все. Я думал, так будет лучше. Правильнее.
— Ах да. Ты же у нас идейный. Если что-то решишь один раз, то все. Никаких шансов на исправление, — усмехается она, — я помню.
Сейчас мое извечное стремление к правилам и рамкам мне самому кажется убогим. Да, оно прекрасно в бизнесе и в делах, но в личной жизни — это то, что может все сломать. Уже сломало. Я реально дровосек, привыкший действовать строго по схеме и выбрасывать все, что в нее не укладывается.
— Я не идейный. Я просто дурак. Не понял, что по-настоящему важно. И все рвался за какими-то идиотскими идеалами.
— А что важно, Демид?
— Ты. Всегда была только ты. Я же с тобой не такой, как со всеми остальными.
— Жестокий и бесчувственный? — в ее голосе проскальзывает холодный сарказм.
— Это была защитная реакция.
— И от кого же ты защищался, Демид? От глупой студентки, которая не умеет одеваться, разговаривать и вести себя на людях. Да, это действительно опасный враг.
— Я защищался от того, что чувствовал к тебе. Я не привык чувствовать, не привык к тому, что эмоции выходят из-под контроля. Мне тогда казалось, что лишаюсь опоры. Наверное испугался…
Да. Именно так. Демид Барханов испугался того, что ледяной кусок в груди начал оживать, и приложил все усилия, чтобы заморозить его обратно.
— И что же ты чувствовал? — спрашивает она, чуть склонив голову на бок. Наблюдает за мной, считывая каждый жест, каждую эмоцию, но ничего не давая взамен. Это она раньше щедро делилась со мной своей энергией, теперь же все строго дозированно и только тогда, когда она сама сочтет это нужным.
Я не умею признаваться ни в своих ошибках, ни в чувствах. И никогда не умел. Считал это умение совершенно бесполезным, а теперь мнусь, не зная где найти нужные слова. Такие чтобы она поняла, прочувствовала то, что твориться у меня внутри.
— Любовь?
Она поднимает темные брови:
— Почему ты спрашиваешь? — улыбается мягко и в то же время бесконечно грустно, — не уверен?
— Уверен, — упрямо качаю головой, — на все сто процентов.
— Здорово, — тянет она, — я за тебя рада.
Я понимаю, что