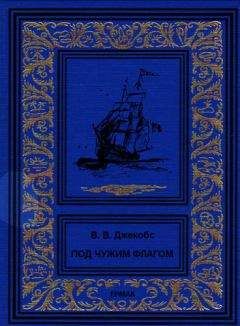«Боль должна поражать либо тело, либо душу; если поражено тело, надо лечить его; что же касается души, всегда в ее власти сохранить свою ясность и спокойствие, убедив себя, что в ее случайном огорчении не было участия злой воли».
Джойс невесело засмеялся и бросил книгу на одну полку с теми, которые продавались по четыре пенса. Кротость Марка Аврелия не находила в нем отклика.
Вошел рассыльный с письмом к мадам Латур. Джойс послал его к Ивонне с мальчиком из лавки, который тотчас же принес ответ. Сейчас она начнет укладываться. Джойсу, казалось, кто-то сжал клещами его сердце; он готов был кричать от боли.
Время шло; книги все были расставлены по полкам; больше не осталось делать ничего, как только ждать покупателей. Чтобы как-нибудь убить время, он стал переписывать начисто испачканные помарками страницы своей рукописи. В обеденный час он поднялся наверх. Ивонна была молчалива, сдержанна; они почти не разговаривали между собой. По окончании обеда она спокойно рассказала ему о полученном письме.
— Эверард пишет, что сегодня же он надеется получить разрешение, и завтра в церкви св. Луки, в Ислингтоне, состоится венчание. При данных обстоятельствах он находит лучшим не откладывать.
— Ну что ж. И хорошо. Когда наступает перемена, лучше, чтобы она не затягивалась. Но когда же именно — в котором часу?
— Это он мне сообщит потом.
— Вам надо уложиться. Если я могу вам помочь, Ивонна…
— Спасибо — нет. У меня так мало вещей. Мелочи я оставлю вам — на память. Ведь вам приятно будет сохранить их?
— Благодарю вас, Ивонна, — сказал он, глядя в сторону. Оба говорили вполголоса, словно уговариваясь насчет погребения. Джойс, ослепленный своим горем, не замечал ее уныния. Заметил только, что она серьезнее обыкновенного, но в такой момент это было естественно. Свою собственную боль он прятал, делая над собой геройские усилия.
Так прошел день. Джойс опять зажег газ в лавке и убивал время механической работой, какую только мог придумать. Одному все же легче было. Болтовня старика была бы ему теперь несносна, прогнала бы его в гостиную, где он терпел жестокие муки, или же на чужую, жестокую улицу.
Слава Богу, одиночество его продлится еще дня три. Рункль не так еще скоро вернется из Эксетера.
Снова пришла записка от епископа. Даже две — одна Ивонне, другая Джойсу, извещавшая, что венчание назначено ровно в двенадцать дня, что незадолго до этого он пришлет карету за Ивонной, чтобы отвезти ее в церковь. В заключение, епископ любезно просил Стефана присутствовать при венчании и быть посаженным отцом Ивонны. До Стефана словно донесся голос девушки в колпаке Армии Спасения, и он угрюмо усмехнулся: «Мерзее этого я ничего не знаю».
Он нацарапал несколько строк в ответ и отдал их ожидавшему посыльному. «Об этом я и не подумал», — сказал он себе.
Вечер они просидели молча на своих обычных местах у камина; каждый помнил, что это — последний вечер. Обыкновенно Ивонна шила, или читала, или дремала, полузакрыв глаза, как котенок, который нежится у огня, а Джойс писал, держа на коленях бювар. Порой она вставала, подходила, становилась за его креслом и читала слова, выходившие из-под его пера, почти касаясь его коротко остриженных белокурых волос своими черными кудряшками. И говорила:
— Прогоните меня, если я вам мешаю.
А он, радостно смеясь, отвечал на это:
— Смотрите, как красиво вышла эта фраза. Мне ни за что не написать бы так, если бы вы не стояли возле меня.
— Мне это нравится — разыгрывать роль ангела-хранителя.
— Это не игра. Когда вы осеняете меня своими крыльями, я работаю так, как не мог бы работать без вашей помощи.
Она краснела и чувствовала себя счастливой.
Но в этот последний вечер они сидели врозь, далеко друг от друга — их уже разделяло полмира — и говорили принужденным тоном, с длинными паузами. Он почти все время заслонял глаза рукой, будто от света — на самом деле для того, чтобы не смотреть на свое утраченное блаженство и чтоб она не заметила голодной тоски в его глазах. Когда, наконец, она встала, чтоб пожелать ему доброй ночи, он принудил себя встретить спокойно ее взгляд. И тут впервые поражен был переменой, происшедшей в ней за одну ночь и один день.
Она стояла перед ним бесконечно простая и милая; но даже в тот день, когда она узнала о потере голоса, у нее не было такого измученного, страдальческого лица. Детски-жалобного выражения уже не было в этом лице; был суровый пафос муки взрослой женщины. Но что ее мучит, он не мог понять.
— Бедная моя детка! Вы еще недостаточно окрепли для таких волнений. Постарайтесь хорошенько выспаться.
Он отворил ей дверь и поддержал, пока она прошла. И затем, проглотив комок, стиснувший ему горло, добавил:
— Завтра у вас должен быть хороший вид.
Он поймал ее холодную, мягкую ручку, прижал ее к губам и поспешил закрыть за нею дверь. Тюрьма казалась раем в сравнении с этой мукой.
К половине ночи Джойс совершенно упал духом.
Будь он от природы сильным человеком, он не поддался бы ряду искушений, завершившихся его преступлением и карой. Или же иначе перенес эту кару, не сломился бы под бременем ее. Если бы даже просто нервы у него были крепче, ему не так отравляло бы жизнь сознание своего унижения. Он тотчас же по выходе из тюрьмы переселился бы куда-нибудь в другую страну и начал бы жизнь сызнова. Будь он сильный человек, Ивонна не нашла бы его отщепенцем, презирающим самого себя, на ступеньках крыльца богатого дяди. Он не растерялся бы так в Гулле, при встрече с товарищем по тюрьме. Не поехал бы вместе с Ноксом в Африку, не искал бы нравственной поддержки в этом смешном и жалком существе, которое он оберегал скорей как женщина, чем по-мужски. Сильный человек не упал бы духом от своих африканских неудач, не страдал бы так от одиночества, не метался бы в тоске по пустынному полю в звездную ночь. Наконец, сильный человек не цеплялся бы так, из боязни одиночества, за Ивонну, как ребенок, который боится темноты и хватается за руку другого ребенка, еще более слабого чем он.
В силу закона эволюции, сильные выживают, слабые умирают. Но в вечной борьбе человечества с беспощадным законом условия меняются, растет сочувствие, и тот бунт против закона, который мы зовем цивилизацией, дает и слабому силы для выживания, так что не одни только сильные вправе требовать своей доли в жизни и любви. И когда слабый всеми своими трепещущими нервами стремится к силе, он совершает такой подвиг, каких не знают сильные.
Так и Джойс, безумец или герой, совершил подвиг, который был выше его сил. Весь этот день он мучительно обуздывал себя. Нервы его были натянуты, как струны. И среди ночи, когда он в тоске метался из угла в угол, они не выдержали: он кинулся на кровать и сильно зарыдал. Стыдясь своей слабости, он зарывался лицом в подушки, закусывал губами одеяло — рыдания взрослого человека не так-то легко заглушить; они вырываются из самых глубин души и потрясают до оснований и дух, и тело — и слышать их жутко и страшно. Судорога, сжимавшая ему горло, невольно исторгала из уст его невнятные стоны и молитвы и заглушенные вопли любви и тоски. Но в то же время он знал, что эта борьба — последняя, и что, пережив этот приступ муки, он обретет вновь спокойствие и силу.