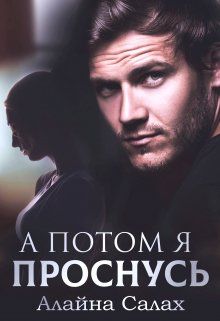Садись-ка в свою машину и выметайся из моего дома. А на досуге хорошо подумай, кто ты и что творишь...
— Я уже подумал, — перебиваю я его. — О том, что ты сделал, напечатают во всех новостях. Видео с преследованием будет повсюду.
Отец презрительно морщится.
— Не смеши. Видео уже, скорее всего, изъяли и никакого расследования не будет. Мой тебе совет — не отказывайся от помощи. Лучшие клиники и врачи будут в твоем распоряжении. Мне этот несчастный случай тоже неприятен.
Я истерично ржу. Как я мог не замечать, насколько глубоко он деформирован и насколько потерял совесть? Считает, что все кругом можно замять и купить, и упрямо именует собственное преступление несчастным случаем.
— Это видео есть у меня и еще у пары человек. Полиция не нужна для того, чтобы его распространить. Твоя рожа и рожи этих ублюдков украсят все соцсети. Как думаешь, поверят ли тому, кто носит твою гордую фамилию?
Я и сам не помню, как оказываюсь на улице. Перепуганная мать пыталась меня остановить, уговаривая остаться на обед, отец сыпал угрозами и проклятиями.
Проехав метров сто, я паркуюсь у обочины и сижу, уставившись в лобовое. Перед глазами вновь появляются кадры каталки с лежащей на ней Ярославой, следом всплывают черно-белые фрагменты из видео, сочувственное лицо Лелика и цинично-равнодушное — отца.
— Ну хватит, — рявкаю я вслух. — Хорош уже. Соберись. Нужно ехать за Тотошкой. Он наверняка не утерпел и под дверью нассал.
Но ни строгий тон, ни мысль о том, что мне наверняка придется вытирать за псом, не работают. Руки продолжают трястись, как у запойного алкаша, а изображение за окном все так же расплывается. Ярослава в коме, и у меня больше нет отца.
— Ну и чего так на меня смотришь? Так сильно гулять хочешь?
Тотошка продолжает сидеть без движения, тараща на меня свои выпуклые глаза-пуговицы. Разве что выражение сморщенной морды из жалобного становится вдохновенно-несчастным. Это, кстати, вдвойне обидно с учетом того, что вчера я почти час проходил под дождем, терпеливо ожидая, пока он пометит все кусты в округе, а потом до отвала накормил его французскими паштетами. Мог бы, как минимум, перестать корчить из себя сироту.
Смотрю на часы: половина седьмого утра. Раздвигаю шторы: все так же дождливо. Интересно, если пригласить кинолога, сумеет он в кратчайшие сроки научить Тотошку справлять нужду в унитаз? Я где-то читал, что с домашними животными такое возможно.
— Ладно-ладно, — ворчу я, натягивая толстовку. — Давай сначала выгуляем тебя, а потом сделаем все остальное.
Будто поняв, о чем идет речь, пес с энтузиазмом припускает за мной на кухню, не забывая активно вилять своим поросячьим хвостом. В таком режиме наш холостяцкий дуэт существует уже неделю. Правда, в первые пару дней Тотошка отказывался от еды и упрямо мочился на мой дверной коврик, но за это я на него не в обиде. Ясно, что тоскует по Ярославе. Я тоже по ней тоскую. Каждый день.
Намотав несколько кругов по парку и промокнув до трусов, я завожу Тотошку домой, наваливаю ему гору заказанных в зоомагазине паштетов и тащусь в горячий душ. Привычная рутина: помыть лапы и задницу псу, позавтракать и поехать в больницу к Ярославе. За это время ничего не поменялось: она по-прежнему в коме, а от врачей не слышно никаких обнадеживающих новостей.
Все, что можно сделать, уже сделано. Нужно ждать, так они говорят каждый день.
Захватив в цветочном салоне свежую охапку ирисов (правилами больницы не положено, но заведующий сделал исключение), я поднимаюсь к ней в палату. Вроде бы пора свыкнуться с тем, что Ярослава не выскочит мне навстречу, тараторя без умолку, но никак не получается. Всякий раз, когда я захожу сюда, внутренности сковывает ощущение тоски и безысходности.
Поначалу я решил сменить минорное настроение на оптимизм и убеждал себя, что ее беспамятство не продлится долго. Ярослава здоровая и молодая, и в своей короткой жизни уже достаточно пострадала, так что судьба не может обойтись с ней жестоко: день-другой, и она обязательно очнется. Но дни идут, и ничего не меняется. Так мой оптимизм стал понемногу гаснуть. Мне не хватает ее голоса, ее смеха, ее болтовни о рабочих буднях в офисе Диса, озорного блеска ее глаз, ее касаний. Не хватает настолько, что я начинаю задыхаться. Ощущение, сравнимое с клаустрофобией: когда ты помимо воли заперт в ящике обстоятельств и ничего не способен изменить.
— Привет. — Я втыкаю ирисы в вазу и, опустившись на стул, по привычке нахожу ее руку. Исходящий от нее холод достает до самого сердца, и я машинально дую на ее кожу в попытке согреть.
— Ты когда уже встанешь, а, Ясь? — Мой голос сам собой звучит строго и с укором, будто она действительно может меня услышать и прислушаться. — Там Тотошка по тебе грустит. Сегодня пытался ко мне на кровать запрыгнуть. Нахала ты, конечно, воспитала редкостного. И сдается мне, не очень-то благодарного. С такой грустной мордой по улицам ходит, что на меня прохожие с неодобрением коситься
начали. Наверное, думают, что я бью и голодом морю. У тебя с ним так же было?
Со стороны я, наверное, похож на умалишенного: прихожу сюда каждый день и что-то бубню. Но именно эти монологи дают мне эмоциональную разрядку — кажется, если мы говорим, то все в порядке. Даже если она по какой-то причине не отвечает.
— Я по тебе очень скучаю, — шепотом признаюсь я. Все самые искренние слова отчего-то выговариваются только шепотом. — Я даже представить не мог, что буду настолько скучать. Ты ведь помнишь, как мы познакомились? Мне тогда показалось, что ты самая взбалмошная и невоспитанная девушка на свете и нужно поскорее возвращаться домой.
Зажав ее ладонь в своей, я касаюсь губами тонких пальцев.
— Я был таким придурком все это время. Ты так много говорила о своих чувствах, честно и не стесняясь. Мне, моей матери. А я в ответ почему-то молчал, даже когда ты в любви призналась. Понятия не имею, почему. Я-то ведь давно понял, что тебя люблю. Наверное, потому, что ты могла сказать так, что после говорить было стыдно. Ты всегда хвалила меня за умение красиво и правильно выражаться, а на деле я тебе в подметки не гожусь. В конечном итоге важна не толщина лексикона, а умение искренне и без страха им