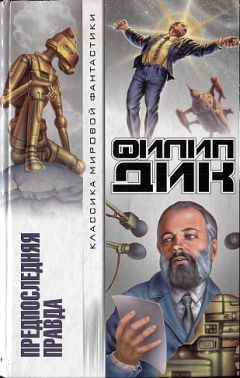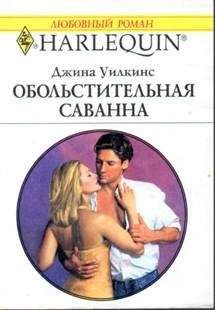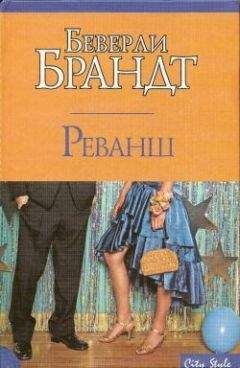— Потанцуем?
— С удовольствием. — Я поднялась.
Мы протиснулись в круг. Для сорока одного года он неплохо танцевал. Двигался сильно и мягко, словно перетекал. Я смотрела то на его сильные плечи, то на бедра. Наверное, он классный в постели, весь литой и волосатый. Четыре песни подряд он улыбался мне и так неотрывно глядел в глаза, что я подумала, как бы не начать косить. Когда заиграли „Если только на одну ночь" Лютера Вандроса, я было повернулась уходить из круга, но он потянул меня за руку.
— Еще один танец. Ну пожалуйста!
Господи, слава тебе. Лайонел обнял меня и привлек к себе так близко, что пришлось отвернуться, чтобы не испачкать его рубашку помадой, и — некуда деться — положить голову ему на грудь, крепкую и горячую.
Он обхватил меня, и я услышала: „Ты на ощупь такая приятная".
Я подняла голову: „Ты тоже ничего". Он усмехнулся и снова прижал меня. Я закрыла глаза и почувствовала, как дорожка на колготках бежит все дальше и дальше. Ну и пусть. Я расслабилась и стала внушать себе, что этот мужчина мой. Тот, о ком я всегда мечтала, кого ждала всю жизнь.
Когда пленка кончилась, Лайонел пошел, а я словно поплыла к нашему столику. Третье свободное место было занято: за столиком сидела та самая дама, что отвесила мне комплимент у зеркала в туалетной комнате.
— Саванна, познакомься с моим добрым другом. Это Дениза. А это Саванна.
Она улыбнулась и произнесла:
— Мы уже почти знакомы.
— Еще раз здравствуйте. — Я не знала, садиться или нет, но села.
Лайонел немного растерялся. Тогда Дениза придвинулась к нему на стуле вплотную, обвила его руками и сказала:
— Лайонел, ты ни разу за весь вечер не танцевал со мной.
Она встала прямо перед ним и взяла его за руки. Он поднялся и посмотрел на меня извиняющимся взглядом. Я, как мне показалось, изобразила во взгляде понимание и старалась не глядеть вслед, пока они шли к площадке. Но отвести взгляд было невозможно. Я даже не слышала музыки: он прижал ее к себе точно так же, как меня. Не отдавая себе отчета, я закурила и заставила себя отвернуться — смотреть не было сил. В это время спущенные петли добежали до самой щиколотки, тонкая ткань лопнула, и пятка приклеилась к заднику туфли. Это было уже слишком. Я погасила сигарету и пошла за пальто.
Если повезет, я еще успею на программу Дика Кларка.
Когда Джон объявил, что уходит, да еще к белой, Бернадин остановилась на пороге кухни и принялась быстро вытаскивать из волос термобигуди. Друг за другом все восемнадцать полетели в мужа. Кудри рассыпались, закрывая глаза, прилипая к губам, и она заложила тяжелые завитые пряди за уши.
— Извини, что так получилось, — сказал Джон и допил кофе. — Дом можешь оставить себе, но городскую квартиру возьму я.
Дом? Квартиру? Бернадин почувствовала себя словно в тумане и все пыталась взглянуть мужу в глаза: может, он просто неудачно пошутил. Но его черты расплывались, и она никак не могла разобраться, чего больше на его лице — испуга или облегчения. Разлад начался давно, с год назад или даже больше, и они оба это понимали. Джон уже не оправдывался и не извинялся, когда не приходил домой ночевать. Близость исключалась полностью, да они в ней и не нуждались. Даже если и спали в одной постели, то спиной друг к другу.
Струйки пота побежали по вискам, по шее, за ворот намокшей ночной сорочки. К потной шее тут же прилипли волосы, одинокая капля покатилась по спине. Бернадин всего этого не замечала. Она беспомощно щурилась, в надежде увидеть Джона яснее. Ничего, кроме откровенного равнодушия, она в его лице не нашла. Он поджаривал тосты так буднично и спокойно, что Бернадин поняла: ему плевать, каково ей или что она скажет на эту его „новость". Она попыталась вспомнить, как именно он ее преподнес. Кажется, это было сказано тем же тоном, каким, бывало, говорил: ,Я в магазин. Надо что-нибудь?" или „Есть что-нибудь стоящее вечером по ящику?". Впрочем, Бернадин не могла поручиться за точность своего восприятия, потому что слегка одурела, словно марихуаны накурилась. Но она не курила. И все-таки что-то давило на плечи, а голова будто наполнилась легким газом, вроде гелия, и мысли ускользали вместе с ним. Она не могла шевельнуться. Тонула и всплывала, словно наливалась свинцом, а потом делалась невесомой. Все это напугало ее.
Она попыталась заставить ноги двигаться, хотела повернуться и уйти, но их как парализовало. Хотела поднять руки, отмахнуться от всего, но руки тоже словно примерзли. Даже пальцы не двигались. И тут Бернадин почему-то вспомнила, что однажды уже пережила такое же ощущение полнейшей беспомощности. Когда едва не утонула.
Вместе с подругой, которая была на седьмом месяце беременности, Бернадин плыла к плоту на середине озера. Плавала она не слишком хорошо, да еще курила по пачке в день, так что на плот выбралась еле дыша и без сил растянулась на досках. Солнце превратилось в раскаленный оранжево-огненный шар и слепило даже сквозь закрытые веки. Не успела она отдышаться, как слышала: „Готова?" Открыла глаза, увидела над собой огромный живот. Догоняй!" — крикнула подружка и спрыгнула с плота. Бернадин медленно приподнялась, села, сползла к краю и не очень изящно плюхнулась в воду. Подруга была уже довольно далеко. Бернадин проплыла кролем метров пять или шесть, но когда попыталась очередной раз взмахнуть рукой, поняла, что не в силах. Сил двигать ногами тоже не осталось. Она хотела было перевернуться на спину и просто полежать на воде, но от одной только мысли устала. Тогда она успокоилась и медленно пошла ко дну. Бернадин смотрела, как кружатся в светлом потоке золотистые водные струйки, стайки пузырьков, и ей показалось, что она летит. Еще немного, и она уже полностью подчинилась безмятежному состоянию небывалого, неизведанного блаженства, но тут до нее дошло, что она, в сущности, тонет. В панике она захлебнулась, закашлялась и, когда ноги коснулись дна, оттолкнулась изо всех сил, стремясь преодолеть, казалось, километровую толщу воды. Воды оказалось по шею. Бернадин постояла, приходя в себя, отдышалась и медленно побрела к берегу; и вот уже вода была по грудь, потом по колено, по щиколотку… Подруга уже отдыхала, растянувшись на одеяле. Бернадин не стала рассказывать ей о случившемся.
А теперь она смотрела на мужа, думая, как давно она хотела прогнать его, набраться мужества и сказать наконец „Убирайся!" — и никак не могла. Ей хотелось одного: устранить причину мучений, вздохнуть спокойно, вернуться к нормальной жизни, но он ее обставил. Он не только бросил ее, он уходил к другой. Хуже того, он уходил к белой. Такого оскорбления, такого предательства Бернадин не ожидала. Назло, все ей назло. Из глаз катились слезы, и она тщетно пыталась их удержать. И ведь он не прогадает. Только белая и станет терпеть такого мерзавца. Ну, конечно, с ней он будет чувствовать себя королем! Ей наверняка до смерти льстит, что молодой преуспевающий красивый цветной мужчина любит ее и готов дать ей все, лишь бы она ни в ком и ни в чем, кроме него, не нуждалась. Да та его боготворить станет. Как и она, Бернадин, в свое время, пока не разобралась. Черт возьми, одиннадцать лет она была его „белой".